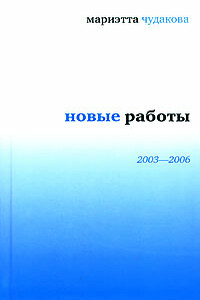Беседы об архивах | страница 51
Потом правил и сам перепечатывал на машинке.
Опять правил и давал машинистке. Еще раз правил и часто начинал весь процесс — от карандаша к машинке и обратно — по многу раз кряду».
Читая изо дня в день только от руки написанное, да еще сотнями разных людей, архивисту трудно, надо думать, не предаться соблазну определять характеры по почерку?
— Читая изо дня в день только от руки написанное, да еще сотнями разных людей, архивисту трудно, надо думать, не предаться соблазну определять характеры по почерку — или хотя бы высказывать догадки в духе психографологии.
— Ю. Тынянов как-то записал: «В психографологию я не верю с тех пор, как графолог Моргенштерн, взглянув на мой почерк, заявил, что я деспот в личной жизни». Но и у него интерес к почеркам изучаемых им литераторов был острым. Многочисленные рабочие планы, сохранившиеся в его личном архиве, показывают, что он думал написать о почерках особо — статью или, возможно, эссе. В одной из его записных книжек остались наброски к этой работе:
«Квадратная клинопись Чаадаева, издевающаяся над своей эпохой, листки его рукописей, подобные папским буллам.
Похожий и очень не похожий на него почерк Вяземского: квадратные, отдельные буквы, но бревенчатые, с торчащими во все стороны застрехами и соломой, княжеская деревня на бумаге.
Почерка царей, начиная с Александра Первого, — как цирковые, дрессированные лошади, умеющие двигаться только по корде, по кругу.
…Ломаная дрожащая проволока Тютчева, напоминающая ломаные готические линии немецких соборов и английские почерка XVIII века.
…Гоголь — старательный, в котором еще чувствуется пропись». И еще раз о нем: «Аккуратный, изящный и детский почерк Гоголя…»
Работа остановилась на набросках, но рассуждения о почерках попали в роман о Пушкине. Там описан лицейский учитель чистописания — Калинич: «Он требовал твердой линии и был враг нажимов и утолщения, а в особенности не любил задержки пера на началах и концах букв, от чего получалась точка. Это он считал чертою подлою, приказною и писарскою. Не любил он также «кудрей» — букв широких, раскидистых.
Так писали Корф и Кюхельбекер, обучавшиеся дома немецкой грамоте.
— До парафа не дойдете, — говорил он им.
Параф, росчерк подписи, он считал самым трудным, завершением всего дела.
— Кто неясно пишет, тот, видно, смутно и думает, — говаривал он, ничем, впрочем, не подтверждая этой своей мысли.
К почерку Александра он относился снисходительно:
— Новейшей французской школы — есть полет, но мало связи. Илличевский четче, но склонен к завитку».