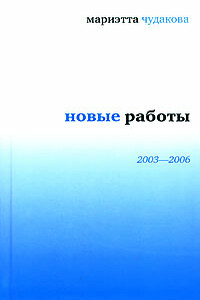Беседы об архивах | страница 21
«Толстому подражаете», а самолюбивый автор, рассердясь, специально разрушает эту установку на однозначную идентификацию: «Кому именно из Толстых? — спросил я. — Их было много… Алексею ли Константиновичу, известному писателю, Петру ли Андреевичу, поймавшему за границей царевича Алексея, нумизмату ли Ивану Ивановичу или Льву Николаевичу?»
Вот этот самый ряд вопросов и поставит перед собой архивист, если в разбираемых им бумагах мелькнет вдруг имя — «Толстой», не сразу ясное из контекста. И дело тут не только в объеме знаний (хотя недаром редактор тут же осведомился у молодого автора — «Вы где учились?»), а еще и в принципиальной неиерархичности и непредубежденности подхода к новому факту. В отличие от исследователя у архивиста обычно нет сложившейся концепции относительно того исторического или литературного явления, материалом для изучения которого послужат описываемые им документы. Он не испытывает того непреоборимого желания приписать неизвестную статью Н. Чернышевскому или Н. Добролюбову, которое породило столько неверных атрибуций. Если у него и есть ярко выраженные предпочтения одного деятеля другому, то опыт показывает, что это гораздо меньше влияет на его взаимоотношения с документом, чем у исследователя, мало и недостаточно профессионально работавшего в архивах. (Правда, люди — всего лишь люди, и время от времени архивист появляется перед столом своего коллеги с двумя листочками в руках; с тщательно запрятанной тоской он просит сравнить похож ли почерк? Обычно это означает последний предел безысходных поисков и сличений, тот предел, когда, ясно видя несходство почерка неизвестного с известным, человек возгорается бессмысленной надеждой на то, что зрение ему изменяет. При этом он еще старательно нагоняет на лицо выражение полной незаинтересованности: похож так похож, нет так нет. Однако разоблачение не замедлит; коллега холодно или с беспощадной иронией осведомится: «Что — нужно, чтоб похож был?» И, добросовестно вглядевшись все-таки в поражающие несходством почерки, отгонит беднягу от своего стола.)
Архивист смотрит прежде всего на признаки объективные — на почерк, дату, место отправления и назначения. Он должен понять, что именно перед ним — черновой автограф (обычно не оставляющий сомнения в авторстве) или лишенный помарок список, который мог быть сделан кем-то с чужого текста. Он не дает себе увлечься; он знает — ошибка подстерегает его на каждом шагу. Вот, казалось бы, все известно — инициалы и фамилия, и род занятий. А. И. Мильчаков, литератор, двадцатые годы нашего века — это Александр Иванович Мильчаков, член редколлегии журнала «Молодая гвардия»; но если дать волю неясному сомнению, то далее выяснится, что это — Алексей Иванович Мильчаков, подвизавшийся на литературном поприще в те же самые годы, только не в Москве, а в Вятке.