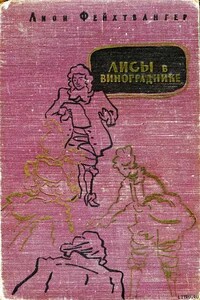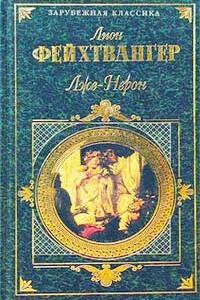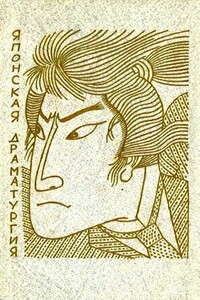Тысяча девятьсот восемнадцатый год | страница 40
Раненый (берет ее руку). Благодарю. (Уходит.)
Господин Шульц (качает головой). Сумасшедший дом.
Тайный советник. Очаровательно. Очаровательно. Подлинная немецкая женственность.
Шансонетка (повторяет припев).
Господин из австрийского посольства (аплодирует двумя пальцами). Прэ-э-э-лестно. Прэ-э-э-лестно.
9
Крестьянский двор. Отец Томаса — старый крестьянин, одет в полугородской костюм; суровое, недоверчивое лицо.
Старик чинит деревянные грабли.
Анна-Мари (входит). Вы — господин Матиас Вендт?
Отец Томаса. Да.
Анна-Мари. Я знакома с вашим сыном.
Отец Томаса. Приходит много людей, которые знают моего сына.
Анна-Мари. Здесь, значит, он родился. (Осматривается. Широкий холмистый ландшафт. Вдали — смутные очертания гор.)
Отец Томаса (с мягкой насмешкой). У нас тут и глядеть не на что, фрейлейн.
Анна-Мари (взглядывает на него). Не любопытство привело меня сюда.
Отец Томаса. Было бы умнее, если бы он остался здесь. Скот не бывает благодарным или неблагодарным. Пашня не бывает благодарной или неблагодарной. Люди же всегда готовы убить того, кто хочет им добра.
Анна-Мари. Он в списках пропавших без вести. Я очень беспокоюсь.
Отец Томаса. Беспокоиться нечего.
Анна-Мари. Вы что-нибудь знаете о нем?
Отец Томаса (тихо, ровно). Я его вижу.
Анна-Мари. Вы его видите?
Отец Томаса. Да, иной раз. Томас лежит на дне глубокой ямы. Он бледен и не может шевельнуться. Время от времени сверху скатываются комья земли.
Анна-Мари (наклонившись вперед, напряженно слушает). Вы это видите?
Отец Томаса. Он не один. Но никто не может ему помочь. Он шевелит губами. Он говорит…
Анна-Мари. Что он говорит?
Отец Томаса. Он говорит: «Не забывайте». (Безразлично.) Ну, мне пора. (Берет грабли.) До свиданья, фрейлейн. (Удаляется.)
Анна-Мари. На эти деревья он лазил, по этим лугам он бегал, срывал, может быть, цветок, от которого произошел вот этот. О Томас, я могла бы умереть за тебя, когда тебя нет со мной. А когда ты со мной, у меня нет ни одного слова для тебя.
10
Улица. Торопливо идущие люди.
Раненый (стоит на углу). Все куда-то торопятся, все чем-то заняты. Как ни в чем не бывало. На уме — дела, женщины, развлечения. Разве эти люди не знают, что все они у меня в долгу? Ну, не наглость ли это? Они смотрят сквозь меня, точно и я — частица этой улицы. Подойти бы вон к тому толстяку с самодовольной рожей, ткнуть его в пузо: «Эй, дружок. Руку у меня оттяпали, видите? Вы должны мне руку». Воображаю, как бы он вытаращил на меня глаза!