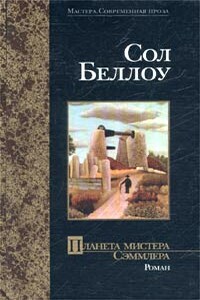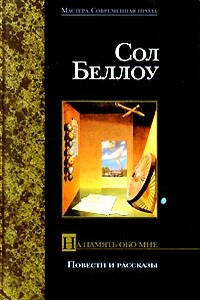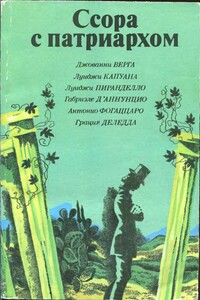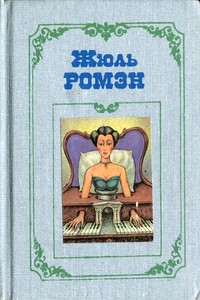Дар Гумбольдта | страница 65
Пока такси возвращалось на Дивижн-стрит, я провел ироническую параллель между проблемами мужа Наоми и своими собственными. Он тоже промахнулся с мафией. Я не мог не думать о благословенной жизни, которую мы могли бы прожить с Наоми Лутц. Проведя пятнадцать тысяч ночей в объятьях Наоми, я бы улыбался даже в уединении и скуке могилы. С нею мне не нужны были бы ни библиография, ни акции, ни орден Почетного легиона.
Такси снова мчалось через кварталы, ставшие близнецами тропических трущоб Вест-Индии, какого-нибудь Сан-Хуана, раскинувшегося на берегу лагуны, пузырящейся и пованивающей, как рыбья требуха. Все то же самое: осыпающаяся штукатурка, битое стекло, замусоренные улицы, корявые надписи возле магазинов, сделанные голубым мелком.
Но «Русская баня», где мне предстояло встретиться с Ринальдо Кантабиле, почти не изменилась. В том же здании располагалась гостиница для рабочих, или пансион. Испокон веку на третьем этаже жили престарелые работяги, одинокие украинские деды, уволенные вагоновожатые и какой-то кондитер, известный своими глазурями и потерявший работу из-за артрита, скрутившего его золотые руки. Я знал это место с детства. Мой отец, как и старый мистер Свибел, верил, что баня полезна для здоровья, а битье дубовыми листьями, распаренными в старой шайке, разгоняет кровь. Такие ретрограды встречаются и по сей день. Они сопротивляются современности, волоча по жизни ноги. Как однажды объяснил мне наш квартирант, физик-любитель Менаша (правда, гораздо больше ему хотелось быть драматическим тенором, и он даже брал уроки пения, а работал в «Брансуик Фонограф» оператором высадного пресса), человек может повлиять на вращение земли. Как? Ну, если все жители Земли в оговоренный момент шаркнут ногой, вращение планеты замедлится. А это, в свою очередь, повлияло бы на Луну и приливы. Конечно, Менаша имел в виду не физику, а гармонию, или единство. Полагаю, некоторые из тупости, а другие из упрямства всегда будут шаркать ногами в другом направлении. Однако старая гвардия в бане, казалось, действительно втянулась, хотя и неосознанно, в коллективную попытку сопротивления истории.
Эти приверженцы пара с Дивижн-стрит выглядели иначе, чем нарядно одетые гордые люди в центре города. Даже старый Фельдштейн, в свои восемьдесят с гаком жмущий педали велотренажера в Сити-клубе, на Дивижн-стрит оказался бы не в своей тарелке. Сорок лет назад Фельдштейн был жизнелюбом, игроком, прожигателем жизни с Жуир-стрит. Несмотря на возраст, он современный человек, тогда как завсегдатаи «Русской бани» словно отлиты по античным формам. Отрастили отвисшие зады и жирные и желтые, как пахта, груди. Они переставляли подрагивающие тощие ножки, исчерченные красными прожилками и синеватыми, как у рокфора, пятнышками возле лодыжек. После парной эта старая гвардия поглощала огромные ломти хлеба с селедкой, внушительные круги салями и истекающие жиром говяжьи стейки, запивая все это добро шнапсом. Они могли бы сокрушать стены своими старомодными, плотно набитыми и выпирающими животами. Но здесь их формы никого не удивляли. Чувствовалось, что эти люди догадываются, что племя их вымирает, что они принадлежат к тупиковой ветви эволюции и отвергнуты природой и культурой. А потому в раскаленных полуподвалах все эти славянские троглодиты и деревянные демоны, обросшие жиром, с каменными, будто поросшими лишайником голенями, доводили себя до кипения, а потом обрушивали на разгоряченные головы ледяную воду из шаек. Наверху, в раздевалке, на экране телевизора маленькие хлыщи и хихикающие девицы вели умные беседы, радовались и огорчались. Но на них никто не обращал внимания. Микки, местный буфетчик, жарил огромные куски мяса и картофельные оладьи, здоровенными ножами рубил капусту для салата и резал на четвертинки грейпфруты (чтобы есть их руками). Губительный жар пробуждал у обмотанных простынями толстых стариков зверский аппетит. А внизу Франуш, служитель, поливал холодной пузырящейся водой раскаленные добела булыжники, сложенные грудами, как боеприпасы для римских баллист. Чтобы не вскипели мозги, Франуш надевал мокрую фетровую шляпу с оторванными полями. Другой одежды на нем не было. Он подползал к печи, словно красная саламандра, палкой приподнимал задвижку топки, за которую невозможно было взяться руками, и опять же на четвереньках, демонстрируя болтающиеся на длинной жиле яички и блистая добродетельным анусом, полз назад, ощупью таща за собой шайку. Франуш выплескивал воду, булыжники вспыхивали и шипели. Вероятно, ни в одной карпатской деревне такого уже не встретишь.