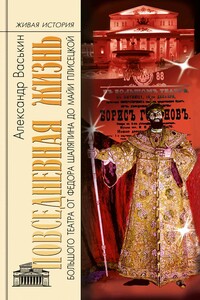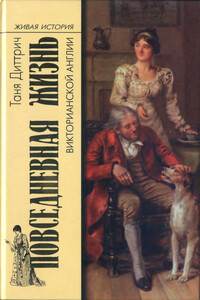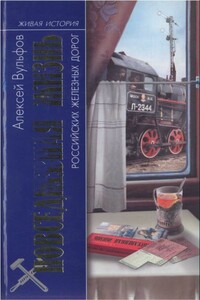Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции | страница 10
Тогда в Аррасе, как и теперь, существовало общество молодых людей, соединенных дружбой и любовью к поэзии, розам и вину. Они собирались каждый год в июне под сенью бирючин и акаций, чтобы отмечать праздник роз, поэтому их прозвали «розатами». Робеспьер был избран в их кружок. Следуя принятому обычаю, новому члену поднесли розу, которую он трижды понюхал и вдел в петлицу. Затем залпом выпил стакан розового вина в честь царицы цветов, расцеловал своих новых товарищей и получил от них диплом в стихах, на которые ответил на том же «языке богов»:
Подобные развлечения не могли утолить жажду этой бурной души. Он задыхался в провинции, и скоро представился случай вырваться из нее: король созвал Генеральные штаты. Робеспьер выставил туда свою кандидатуру и был избран. Он поручил своей сестре Шарлотте старый дом на углу улицы Рапортер, в котором они вместе жили, одолжил десять луидоров и дорожный чемодан[21] и уехал восвояси.
Если Аррас казался слишком тесной ареной его честолюбию, то он, в свою очередь, почувствовал себя ничтожеством, когда приехал в числе шестисот депутатов в Версаль.[22] Он остановился вместе со своими коллегами из Артуа в гостинице «Лисица», на улице Святой Елизаветы[23]. Коллеги эти, четыре добрых земледельца, совершенно растерялись в своем новом положении и не отходили от него ни на шаг. Он приложил все старания, чтобы заставить говорить о себе, но сцена была так велика, актеры так шумны, действие так бурно, что он долго оставался незамеченным.
Теперь, перед предстоящим подвигом, он чувствовал себя еще меньше и ничтожнее, чем раньше. В минуту откровенности он сознался секретарю Собрания Мирабо, что трепещет при одной мысли о выступлении и теряет голос, когда начинает говорить. Прежде всего, он испытывал тот стыд, который чувствуют бедняки, когда им приходится иметь дело с богатыми людьми.
Известность, которой он добивался в первую очередь, также не приходила, несмотря на все его усилия. Однажды, дрожа от страха, угнетенный насмешками правых, он поднялся на трибуну, чтобы протестовать против деспотической и устаревшей формы постановлений Совета: «Людовик, милостью Божией… Наше совершенное знание… Наше соизволение». «Нужна, — говорил он, — простая и благородная форма, возвещающая национальные права и вселяющая в сердца уважение к закону, вроде следующей: народ, вот закон, который хотят тебе дать!» Тогда один гасконец из правых, удивленный этим торжественным и поэтическим оборотом речи, воскликнул: «Эй, вставайте, это же духовная песнь!» Собрание покатилось со смеху, и Робеспьер, озлобленный и красный, вернулся на свое место, сопровождаемый ироническими рукоплесканиями.