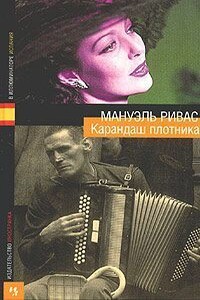Хлеб ранних лет | страница 16
Я снял комнату с первого февраля. Но потом начались недоразумения: в конце января Муллер написал, что его дочь заболела и приедет только к пятнадцатому марта и нельзя ли так устроить, чтобы комната оставалась за нею, но не оплачивалась. Я написал ему гневное письмо, где разъяснил, каковы жилищные условия в нашем городе, на устыдился, получив от него смиренный ответ, в котором он выражал согласие внести квартирную плату за эти шесть недель.
О девушке я вообще почти не вспоминал, я только удостоверился, что Муллер действительно внес плату. Он прислал деньги, и, когда я справился об этом у хозяйки, она не преминула спросить меня о том же, о чем спрашивала раньше, когда я смотрел комнату.
— Это не ваша подружка, это в самом деле не ваша подружка?
— Боже мой, — ответил я сердито, — говорю вам, что я вообще не знаком с этой девушкой.
— Я не допущу, — произнесла она, — чтобы…
— Я знаю, — ответил я, — чего вы не допустите, но говорю вам: с этой девушкой я не знаком.
— Хорошо, — сказала хозяйка, и я возненавидел ее уже за одну ее усмешку. — Ведь я спрашиваю потому, что для жениха с невестой я иногда делаю исключение.
— Боже мой, — проговорил я, — этого еще недоставало. Успокойтесь, пожалуйста… — Но, кажется, она так и не успокоилась.
На вокзал я пришел с опозданием на несколько минут и, бросая монетку в автомат, чтобы получить перронный билет, попытался представить себе девушку, которая пела «Зувейя», когда я проходил по темному коридору в комнату Муллера с тетрадями по иностранным языкам. Остановившись у лестницы, ведущей на перрон, я размышлял: блондинка, двадцати лет, приезжает в город, чтобы стать учительницей; и когда я разглядывал людей, проходивших мимо меня, мне казалось, что весь мир населен белокурыми двадцатилетними девушками, — так много их сошло с поезда; и все они несли в руках чемоданы и выглядели так, будто приехали в город, чтобы стать учительницами. Я слишком устал, чтобы заговорить с кем-нибудь из них; закурив сигарету, я перешел на другую сторону лестницы и увидел за барьером девушку, сидевшую на своем чемодане, девушку, которая все это время, видимо, находилась позади меня: у нее были темные волосы, а одета она была в пальто, зеленое, как трава, выросшая за одну теплую дождливую ночь; оно было такое зеленое, что от него, казалось, должно пахнуть травой; волосы девушки были темные, как шиферная крыша после дождя, а лицо — ослепительно белое, почти такое же белое, как свежая штукатурка, сквозь которую еще просвечивает охра. Я подумал, что она накрашена, но ошибся. Глядя в упор на это кричаще зеленое пальто, глядя на ее, лицо, я вдруг почувствовал страх, — страх, какой испытывают путешественники, когда вступают на открытую ими землю, зная, что другая экспедиция уже в пути и, быть может, успела водрузить свой флаг и завладеть этой землей; путешественники, которые боятся как бы не оказались напрасными все тяготы их долгого пути, все трудности, борьба не на жизнь, а на смерть.