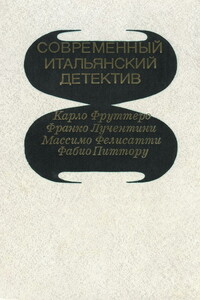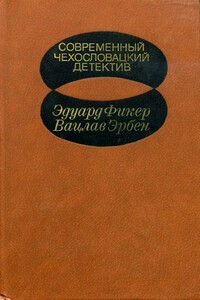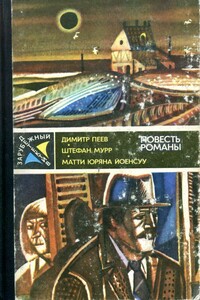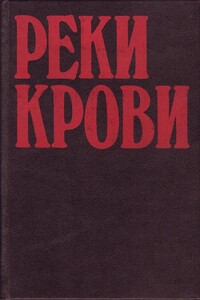Харьюнпяа и кровная месть | страница 62
— Правда, можно бы… — начал Фейя и замолчал, чтобы смочить пересохший рот. — Можно было бы устроить такой фокус: взять на какой-нибудь свалке щитки, снять с любой рухляди… потихоньку добраться на Злючке до Пялькянне и пройти техосмотр там. Здесь все такие строгие. Обязательно найдут в Злючке десятки дефектов, потому что она наша.
— Думаешь, это возможно?
Только если Сашка освободится. А он освободится… Они, наверно, скоро явятся меня допрашивать. Я скажу, что мы были вместе. Им и придется его отпустить… Алекси сможет ему помочь. Я потом снова лягу в больницу в Валкеакоски или в Тампере. Несколько часов дороги выдержу…
— Я начну все готовить. Как…
Сиделка подошла к кровати Фейи. На ней были белый халат, белые чулки, белые туфли, а кожа обнаженных рук напоминала мыло или тело какого-то червяка. Это была молодая женщина с не по возрасту суровым лицом. Склонив голову, она посмотрела на сумку Орвокки.
— Роува[7] Хедман, — сказала она, — вашему мужу нельзя ничего есть — необходимое питание он получает через капельницу.
— А я и не…
— У вас там, в сумке, наверно, гостинцы. Не могу ли я для порядка заглянуть в нее?
Сиделка взяла сумку, раскрыла ее, привычной рукой торопливо порылась там, но не нашла ничего неположенного.
— Не забудьте — ему ничего не надо приносить.
Сиделка направилась к двери, но оставила в ней щелку, как бы в напоминание о своем приказе. Только тут Орвокки поняла, в чем дело, и вспыхнула: сиделка хотела проверить, нет ли в ее сумке больничного имущества. Так ей, во всяком случае, показалось. Горло у нее перехватило. Не в силах вымолвить ни слова, она встала и притронулась губами ко лбу Фейи.
— Приходи к вечеру снова…
Орвокки вышла из палаты, крепко прикусив губу, — она знала, что лучше промолчать, будто ничего не заметила, иначе они испортят им предстоящую ночь. Она пошла по коридору, он показался ей темным и бесконечным, потом сунула руку под пояс на живот и шепнула, словно в объяснение:
— Они все такие наглые.
15. Чердак
Вяйнё лежал на спине поверх одеяла, закинув ногу на ногу, и тихо напевал:
— «Тянется вечер мой бесконечно в сумерках камеры тесной… память о прошлой жизни беспечной… — Голос у него был чистый, но дрожал так, что приводил в волнение даже его самого. — Закованы ноги в тяжелые цепи, одежда моя полосата…»
— Не пой этой песни, — сказал Онни из-под одеяла.
Вяйнё снизил голос почти до шепота:
— «А сердце, как чаша, печалью полно, отравлено жизнью проклятой…»