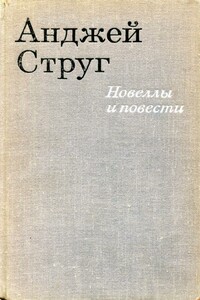Глазами клоуна | страница 32
- Я ночевал у Марии Деркум, - сказал я тихо.
Он высвободил руку, отступил на шаг и сказал:
- Бог ты мой, не может быть. - Он сердито посмотрел на меня и пробормотал что-то невнятное.
- Что? - спросил я. - Что ты сказал?
- Я сказал, что мне теперь все равно придется ехать на машине... Ты меня довезешь?
Я ответил "да", положил ему руку на плечо и бок о бок с ним прошел через столовую. Я хотел избавить его от необходимости глядеть мне в лицо.
- Иди за ключами, - сказал я, - тебе она даст... и не забудь захватить права. Кстати, Лео, мне нужны деньги... у тебя еще есть деньги?
- На книжке, - сказал он, - можешь взять их сам?
- Не знаю, - ответил я, - лучше пошли мне.
- Послать? - спросил он. - Разве ты намерен уйти из дому?
- Да, - сказал я.
Он кивнул и начал подниматься по лестнице.
Только в ту минуту, когда он спросил меня, я понял, что решил уйти из дому. Я пошел на кухню, где Анна встретила меня ворчанием.
- А я думала, что ты не будешь завтракать, - сердито сказала она.
- Завтракать не буду, - ответил я, - а вот кофе выпью.
Я сел за чисто выскобленный стол и начал смотреть, как Анна снимает с кофейника на плите фильтр и кладет его на чашку, чтобы процедить кофе. Мы с Лео всегда завтракали вместе с прислугой на кухне, сидеть по утрам в столовой за парадно накрытым столом было слишком скучно. В то утро на кухне возилась только Анна. Наша вторая прислуга, Норетта, поднялась в спальню к матери; она подавала ей завтрак и обсуждала с ней туалетно-косметические проблемы. Наверное, мать перемалывала сейчас своими безукоризненными зубами зерна пшеницы, лицо у нее было густо намазано какой-нибудь кашицей, изготовленной на плаценте, Норетта же тем временем читала ей вслух газеты. А может быть, они еще только произносили свою утреннюю молитву - смесь цитат из Гете и Лютера, иногда с добавлением на тему "моральное вооружение христиан", или же Норетта зачитывала матери рекламные проспекты слабительных. Мать имела специальную папку, набитую проспектами различных лекарств, проспекты располагались строго по разделам: "Пищеварение", "Сердце", "Нервы"; а когда матери удавалось заполучить какого-нибудь медика, она выуживала из него сведения о всех "новинках", не тратясь на гонорар за врачебную консультацию, и, если врач посылал ей лекарство на пробу, она была на верху блаженства.
Анна стояла ко мне спиной, и я чувствовал, что она боится той минуты, когда ей надо будет повернуться ко мне, посмотреть в лицо и заговорить со мной. Мы с Анной любили друг друга, хотя она никак не могла совладать со своей докучливой страстью перевоспитывать меня. Она жила у нас в доме вот уже пятнадцать лет, перешла к нам от двоюродного брата матери, пастора. Анна родом из Потсдама, и уже то обстоятельство, что мы хоть и лютеране, слава богу, но говорим на рейнском диалекте, приводило ее в ужас, казалось чем-то почти противоестественным. Я думаю, лютеранин, говорящий на баварском диалекте, был бы для нее все равно что нечистый дух. К Рейнской области она уже малость привыкла. Анна - высокая, худощавая женщина и гордится тем, что походка у нее, как у "настоящей дамы". Ее папаша был казначеем и служил в каком-то таинственном месте, которое Анна именовала "Девятым пехотным". Нет никакого смысла доказывать Анне, что наш дом - не "Девятый пехотный"; все вопросы воспитания молодежи исчерпываются для Анны сентенцией: "В "Девятом пехотном" таких глупостей не позволяли". Я так толком и не понял, что это за "Девятый пехотный", зато твердо усвоил, что в сем таинственном воспитательном заведении мне не доверили бы даже убирать клозеты. Мой метод умывания по утрам заставлял Анну произносить свои пехотно-полковые заклинания, а моя "дикая привычка валяться в кровати до самой последней минуты" вызывала у нее такое отвращение, словно я был прокаженный. Наконец она обернулась и подошла к столу с кофейником, но глаза у нее были опущены долу, как у монашки, вынужденной прислуживать епископу с сомнительной репутацией. Я жалел ее, как жалел девушек из группы Марии. Анна своим инстинктом монахини сразу почувствовала, откуда я пришел, зато мать наверняка ничего не почувствовала бы, проживи я хоть три года в тайном браке. Я взял у Анны кофейник, налил себе кофе и, крепко схватив ее за руку, заставил посмотреть на меня; когда я увидел ее водянистые голубые глаза и подрагивающие веки, то понял, что она и в самом деле плачет.