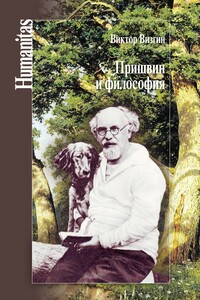Работа любви | страница 69
Я не могу осуждать Лютера, отказавшегося в Марбурге поддержать Цвингли, а также Кальвина, виновного в смерти Сервета, ибо Лютер и Кальвин верят, что слово Божье настолько проникло в души людей, что они способны познать его однозначно и толкование его должно быть единственным. Я же в это не верю, для меня слово Божье подобно падающей звезде, о пламени которой будет свидетельствовать метеорит … Я могу говорить только о свете, но не могу показать камень и сказать: вот он. Однако различие в вере не следует считать только субъективным … Изменилась сама ситуация в мире … Изменилось отношение между Богом и человеком» (все цитаты по моему предисловию к книге: Бубер М. Два образа веры. М., 1995, с. 8).
По Буберу, само предстояние перед Богом реально только как диалог. В мае 1914 года, обдумывая свой разговор с ученым пастором Гехлером, веровавшим буквально в пророчество Даниила, Бубер внезапно осознал: «Если вера в Бога означает способность говорить о Нем в третьем лице, то я не верю в Бога. Если вера в Него означает способность говорить с Ним, то я верю в Бога … Бог, который дал Даниилу … предвиденье…, не мой Бог и вовсе не Бог. Бог, к которому Даниил взывал в своих мучениях, – это мой Бог и Бог каждого» (там же, с. 4). Другими словами, Бог – это реальность, которая раскрывается в молитве и исчезает в «объективном» мышлении, в суждениях богословов, которые исходят из принципов и ненавидят тех, кто не разделяет их принципов. Так одна моя знакомая, женщина по натуре добрая, ненавидела Льва Толстого («Толстой – гад», говорила она), ненавидела Лютера, расколовшего единство католической церкви. Ненависть добрых людей вдохновляла дела веры Средних веков (в обратном переводе на испанский – ауто да фе).
Это не значит, что не надо иметь никаких принципов, никаких убеждений. Человеку нужны инструкции – как быстро и организованно действовать в критической обстановке. Но в тишине мы сознаем, что целостная истина – по ту сторону принципов. И один из подступов к ней – диалог.
Однажды на даче завязался горячий общий разговор. Я никак не мог вставить свою реплику – и вдруг почувствовал, что она перестала меня занимать. Захватило что-то новое, рождающееся; я привязался к этому новому, еще не рожденному, и стал помогать ему родиться, а свою реплику положил назад в сундук памяти. Чем было рождающееся, я не помню. Главной новостью был дух диалога – не как формы поиска истины, а как формы самой истины.