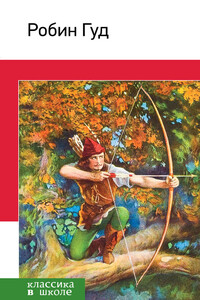Андрей Рублёв, инок | страница 92
Ведь сам ее выбрал, не видев до того ни разу. Вперекор брату женился на смоленской княжне. Уже тогда было ясно, что Василий не будет спорить со своим литовским тестем, Витовтом, за Смоленск. Отдаст литвину древний русский град, не шелохнувшись. Так и случилось через несколько лет.
Хотя нет, не вперекор – к женитьбе брата Василий остался равнодушен. Даром что его Софья – родня Анастасии. Двоюродные сестры, а сносить друг дружку даже на людях не могут. Софья – змея шипучая, Анастасия – крапива жгучая.
Обоим не досталось ладной жены – хоть в чем-то они сравнялись.
Юрий вызвал в памяти образ матери, княгини Евдокии. Отчего-то она предстала его взору в монашеском одеянии, хотя такой, принявшей чернеческий постриг и другое имя, он видел ее лишь два раза перед самой смертью. Но после кончины мужа, которого любила больше жизни, она и стала почти монахиней: носила темные одежды, себя держала в черством теле, строила церкви и монастыри. Софья, обжившись в Москве, поначалу распускала язык, заглазно клевеща на свекровь: приветлива-де вдова с иными из бояр. Юрий тогда быстро нашел источник срамных слухов. Притиснул невестку к стене в полутемных сенях, жарко дохнул ей в ухо, обрисовав – что и как сотворит с ней, если не уймется. Унялась. Но крепко возненавидела его.
Ни Софья, ни Анастасия матери в подметки не годились. А ведь грезилось когда-то, что станет ему такой же верной ладой, как мать отцу, чтоб от одного ее взгляда, одного присутствия в доме было тепло, светло…
«Люблю же ее, дуру!» – безмолвно прокричал Юрий.
А грека-блазнителя – гнать, поганой метлой вымести… Завтра же вон со двора, прочь из Звенигорода!
Ни службы, ни молебна в Благовещенском соборе нынче не было. Но народ здесь всегда толпился и без служб – и московский, и пришлый из других земель-городов. Кто на росписи и иконы знаменитого Феофанова письма пялил очи, кто на поклон к Смоленской Богоматери шел, кто просто отогревался с мороза, бездельно шатаясь меж столпов и стен.
Среди этих бездельных и любопытных затесался высокий, не совсем еще старый чернец в клобуке до самых глаз, в нагольном бараньем тулупе и с палкой-посохом. Из росписей его привлекла лишь одна необычная, с родословием Христа в виде древа, выраставшего из чрева Иессея, отца израильского царя Давида. Под этим стенным письмом сгрудилось больше всего праздного люда. Оно и неудивительно – до Феофана на Руси не знали такого образа.
– …А я тебе говорю, не по образцам он пишет, а как на ум взбредет! – шумел посадский людин в лисьем кожухе. – И на месте не стоит, когда пишет, а будто дергает его кто все время с места на место. Сам не видал, а так говорят. Нету в Гречине смирения. Все поразить хочет, мятежностью завлекает! Не так писать надо!