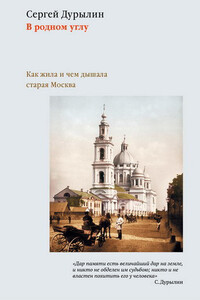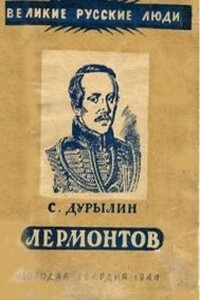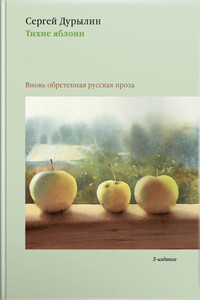Колокола | страница 78
— Баба, — отвечает и рукой тычет на сани: — Из-за нее.
— Что с ней?
— Распростаться не может. Я повез ее в город. Выехали — порошило. Потом пурга поднялась. Замело. На колокол ехали. Нéвидь. Обмерзли. В дом к тебе ткнулись.
— Да это не дом, говорю, это колокольня.
— Ну, вот, слава Богу, доехали. Бабу пособи вынуть. Замело ее.
— Куда ж мы вынем? Не на колокольню ж?
Ничего он не понимает.
— Вынимай, — говорит, — выноси.
И к сугробу идет, что на санях.
— Да, чудак, — говорю, — как же бабу на колокольню?
Он свое:
— Вынимай!
Ужаснулся я на бабий сугроб: не движется. Жива ли? Всадил мужика в сани, повернул лошадь, а она страшная: морда седая, уши белые, — сел сам, погнал. У дьякона в доме огонь.
Я туда: стучал-стучал — открыли.
— Примите, — говорю, — женщину: разродиться ей надо.
Дьякон на меня шугнул:
— Разродись сам от пьянства и извергни празднословие.
И дверь замкнул, и даже огонь погасил.
Я к протопопу. Там и не достучался даже: ставни и снаружи, и изнутри заперты, и к крыльцу на ночь придвинута собачья конура: ходу нет иначе, как через конуру, а в конуре на длинной цепи волкодав.
Я от поповки гоню лошадь к сторожеву домкý. Слепну на метели. А обернусь: сугроб бабий недвижим. Страшно мне. И мужик к сугробу привалился.
Я выскочил из саней, барабаню к сторожу. А сам думаю: «Ужели и впрямь, бабу, как колокол, поднимать на колокольню?» Сторож открыл, Федор, босой, зевает, вихрастый.
Зло меня взяло.
— От бабы? — спрашиваю его со зла.
— От бабы, — дурак отвечает.
— Ну, одной тебе мало, — говорю. — Другую получай!
Он рот разиня стоит. Мы с мужиком сгребли сугроб и в горницу внесли. И как он кричал, как ругался — я не слыхал. Разгребаю сугроб — у мужика руки одеревенели на тепле, — и вижу: жива. Стонет. На пол ее положили. Федорова баба пособила. Сначала и она, чище мужика, гнать принялась. Я на нее прикрикнул:
— Не уйду, мол, пока не разродится.
А она, глупýха:
— С твоей стороны, что ль, ей в пузо надуло?
— С моей, — говорю. — Лучше пособляй. Спорей дело будет. Баба-то еле жива.
К утру опросталась мертвеньким. Я его на руках подержал: холоденек.
— Эх, ты, студеныш, — думаю, — выбрал ты время рожаться!
Баба жива осталась, а мужик два пальца на левой руке отморозил, отнять пришлось. После он сторожу муки привозил.
— А тебе?
Николка усмехнулся:
— А мне он в наказ был: ослюнявил я через него немалый клок и проглотил. Все спят, склеены, а я расклеен на колокольне: человечьи голоса слышу.
Рассвет густо посыпал белой муки на хмурую чернь неба: тонко снежило и густо светало.