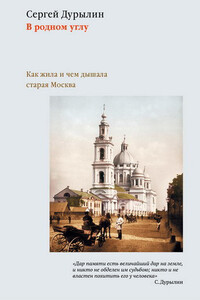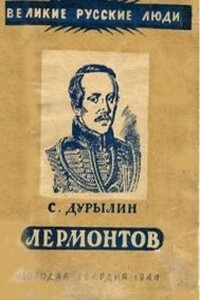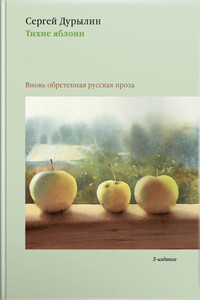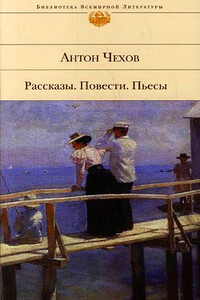Колокола | страница 74
Говорил Николка не без правды, что ходуновский колокол как будто и лишний был: хитрые, славные «Власовы звоны» вызванивались без его гудящего языка. Великолепный зык этот не нужен был для Власовых рек: светлую замутил бы, а бурная и без него бурна была.
Но не одними Власовыми звонами славилась Темьянская колокольня. Славилась они исконú и пасхальным целодневным красным звоном, и благовещенским приветным благовестом, и похоронным перезвоном над погребаемым Христом в утреню Великой субботы, и архиерейской громогласной «встречей», и торжественным напутствием крестным ходам на Iордань. А все это стало еще красней, еще светлей, еще печальней, еще громогласней с тех пор, как зазвучал с верхнего яруса, из-под купола, — тяжелый «Соборный». В глубине души Николка это понимал, но никогда в этом не признавался.
Да и для того еще нужен был Соборный, чтобы заполнить пустоту верхнего яруса колокольни, строенной протопопом Донатом, возрадовался бы протопоп Донат, созерцая огромный колокол в верхнем ярусе, возрадовался бы и восхвалил достойное «исполнение высот», возвести которые до положенного им предела помешал ему аракчеевский городничий Толстопятов.
Когда темьяновцы вспоминали впоследствии, при конце времен, самые славные времена своих красных звонов, бархатного благовещенского благовеста и постного покаянного рыданья, они в один голос приговаривали:
— Это было еще при Николе, когда уж Соборный подняли…
— Да, — отвечали, поникнув головой, — были колокола, были звонари, были и звоны…
Хроника наша поведала и о колоколах, и о звонарях. Надлежит ей поведать и о звонах.
Часть 3. Звоны
1.
Темьян не справляется с вьюгами: в декабрьские ночи они в него хлещут, как белое гневное море жгучим и войким прибоем. На Обрубе, — в щели, прорытой в горе, запорошенной хмурыми скрипучими косоротыми домишками, — тогда кто-то плачет, ущемленный, а на соборной площади, где просторно и кругло, как на белом озере, бегают скоробежки-волны и перебивают одна другую, сыпучие, вихрястые, задыхающиеся ропотом, растущими злыми наветами. С площади бегучие, хлесткие волны влетывают в узкие устья улиц и переулков — и весь Темьян белеет в мятущейся зыби, разведенной суровым декабрьским прибоем клокочущей вьюги.
Темьян не справляется с вьюгой, но он давно уж забил во вьюжное море крепкие сваи домов, строений и заборов и смотрит в ночь и вьюгу маячками фонарей и освещенных окон или, когда надоест смотреть в белую вольницу, заграждается от нее плотными ставнями и припертыми воротами. Вьюга это знает — и настоящая воля ей там, за Темьяном: в полях, падающих за окоем, на слепых дорогах, в широких вымоинах, в паутине оврагов, в равнинных полотнищах, раскинутых белиться белью снегов на тысячи верст. Там кончаются устья, проливы и заливы вьюжного моря, изрезывающие город Темьян, там одно сплошное, неделимое белое море, плещущее переливами вьюг, одержимое прибоями метелей.