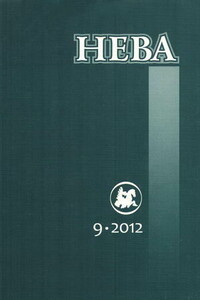Лабух | страница 15
— Рома, как мне быть? — спрашивает Лидия Павловна.
Я не знаю. Такса (это он — таксист, или как?) поднимает ногу и струит на фикус.
— Дартаньян, фу! — возмущенно, словно не ожидала от него такой выходки, хоть он делает это и дома, когда Игорь Львович рубит двери и не дает ему с Лидией Павловной выйти на улицу, дергает Лидия Павловна за ошейник палено–рыжего Дартаньяна. «Три мушкетера» — ее любимая книга, а через нее и моя. Лидия Павловна будто сызнова открыла для меня эту книгу как энциклопедию, в которой легко и весело написано почти все, что можно написать о превратностях судьбы, об изменчивой человеческой жизни.
— Помните, — спрашиваю я, — как д'Артаньян разбогател и снял в отеле шикарные апартаменты? А хозяйка поинтересовалась, оставлять ли за ним его мансарду?..
Лидия Павловна помнит.
«Оставьте, — ответил д'Артаньян. — Жизнь переменчива».
— Вам надо было оставить за собой свою мансарду.
— Да, да, — соглашается Лидия Павловна. — Надо было…
Второй этаж в пятистенке на окраине города оставался за ней по смерти брата, но она продала его, чтобы было на что жить, а Игорю Львовичу — пить: он забрал у нее половину денег, потом от половины еще половину и четверть…
— Может, мне подняться и переговорить с Игорем?
— Не с кем… — разводит она руками, и Дартаньян дергается в ошейнике, полагая, что они идут, наконец, гулять. — Не с кем, да и не один он, там компания…
— Я все же поднимусь… Только фикус давайте оттащим в сторону, чтоб не мешал на дороге.
— Это я мешаю, Рома. Сегодня вдруг почувствовала, что всем мешаю.
Будто бы ни вчера, ни прежде никогда не мешала и не чувствовала.
Когда–то я написал музыку к ее бенефису. Актриса она драматическая, но на бенефисе захотела попеть и потанцевать. В водевиле. Пусть бы плясала, ради бога, только не нужно ей было связываться со мной. Мы дружили — и я хрен знает как для нее старался, и драматурга стараться заставлял, поэтому водевиль получился старательно–хреноватый. Она не назвала водевиль хреноватым, а сказала, что чувствует, как мешает в нем музыке. «Ты написал такую полетную музыку, место которой в космосе, а не на сцене в пыльных кулисах. Твоя музыка струится, искрится, переливается, а я болтаюсь в ней, как какешка в унитазе… Понимаешь?..»
Что там было понимать — меня никто так не обкакивал. Ту музыку водевильную я на мелкие клочки изодрал и в унитаз спустил. Сколько нот — столько клочков.
После бенефиса, на котором она сыграла мать Гамлета (кого же еще, если сорок лет назад Офелию сыграла?), аккуратненький журналист из молодежной газеты еще на сцене попытался взять у нее интервью. Спросил из зала, чем она в жизни своей больше всего счастлива, и о чем сожалеет? Ну, вопрос как вопрос для пытливой молодежи…