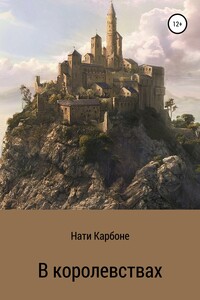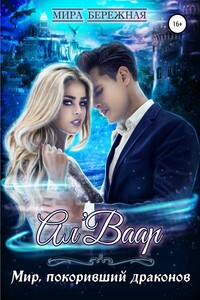Ангелы приходят и уходят | страница 14
Ты извини меня, ладно? Извинишь?
Темно у тебя и странно так. Как будто ты уезжаешь. Пусто.
Нет, мне кажется, так и должно быть. Я просто успел. Еще бы день-другой — и не застал бы тебя здесь, да? Нет, не зажигай света, фонарь ведь за окном, светло, я тебя хорошо вижу.
Как странно — зачем здесь эта армейская табуретка? И скамейка эта? И подшивки газет в углу? Тут недавно умер кто-то, да?
Прости.
Можно, я на тебя посмотрю? Вот так. Можно, я тебя поцелую?
Может быть, он говорил не совсем так. Что-то сказал, а что-то только подумал. Это неважно.
Он прошел в темную пустую комнату, освещенную только уличными фонарями, сел на пачки газет и молча слушал, как она ходит по квартире, разогревает на кухне чайник.
Потом они пили чай. Путаясь и сбиваясь, он снова начал рассказывать, как впервые увидел ее, как искал по всем телефонам…
— Зачем? — спросила она.
— Что — «зачем»?
— Зачем ты меня искал?
Затем, подумал он, что ты мне нужна больше всего на свете, что другого случая в жизни не будет. Он сказал:
— Мне надо было.
Они сидели друг против друга — она на расстеленной прямо на полу постели, он на подшивках «Литературки» — у большого окна, за которым качалась паутина тонких ветвей.
— А мне?
— Что?
— А мне это надо было?
— Я не знаю.
Потом он подумал и добавил:
— Люди должны любить друг друга.
— Всегда?
— Да, всегда. Когда двое друг друга любят, они и остальных людей любят.
— И подлецов тоже?
— Да… Если их можно любить.
— Можно, — сказала она.
И он согласился: да, можно. Ему было трудно говорить с ней. В ее глазах было непонимание. Нет, не враждебность, а непонимание. И оно все росло. Хотя сначала-то, когда он вошел и только начал говорить, в ее глазах было радостное удивление.
— Ну, так почему люди должны любить друг друга? — сказала она. — Объясни мне.
— Что же тут объяснять? — удивился он. — Иначе люди жить не смогут.
— А вот — живут. Может быть, у людей потребность такая — ненавидеть.
— Ну, и это есть. Только ненавидят плохое, злое…
Он замолчал, она не ответила. Только вспыхнул огонек сигареты, вспыхнул отблеск в ее глазах — и погас. Остались во тьме лишь белые кисти рук, и по ним бегала паутина голых ветвей за окном.
Он схватил эти руки и стал целовать. Он прижимал их к своему горячему, еще пьяному лицу, он хотел отгородиться ими — этими руками — от ее вопросов и своих ответов, от всего, что может нарушить его сладкий, такой сладкий сон.
Она отняла руки и поднялась:
— Чепуха. Все это — чепуха. Ты совсем меня не знаешь. А я не знаю тебя… Да и знать не очень хочу, если честно.