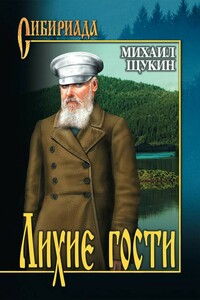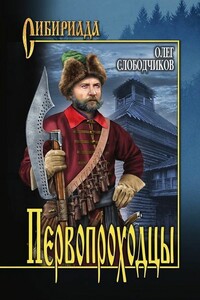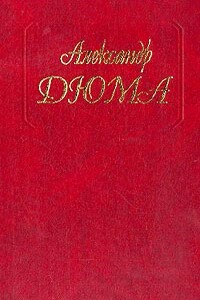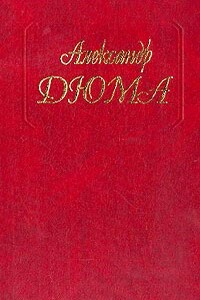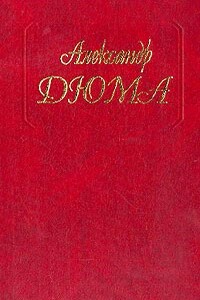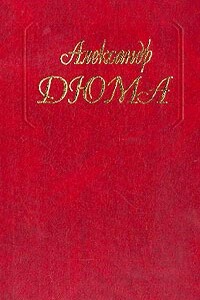По прозвищу Пенда | страница 9
Сивобородый Кривонос, не поднимаясь, пожал плечами, постучал кремнем по железному кольцу на ножнах и стал раздувать трут, вытягивая шрамленые губы. Вскоре под сосной у ручья задымил костерок.
Вот и скатилось солнышко красное на закат дня, ушло в истерзанный западный край, где выжженная земля была обильно полита христианской кровью, засеяна костьми. Заря-зорюшка, темная да вечерняя — девица, швея-мастерица, с блюда серебряного взяла иглу булатную, вдела нитку шелковую, рудожелтую, стала зашивать небесные раны кровавые. Наступили сумерки.
Вогульские ямщики, стреножив коней, так и лежали, не разводя огня, ждали обозного харча. Устюжские и холмогорские складники до сумерек готовили дрова, чинили ветхие шалаши. Уже в потемках они развели большой костер, стали готовить ужин и печь хлеб. От запахов, доносившихся с табора, обсохший Угрюмка то и дело сглатывал слюну.
По своему обычаю казаки съели полученный вчера хлеб за один присест и весь день постились. Угрюмка тоже съел все, что дали, хоть расперло от того живот. Он знал наперед: оставь на другой день краюху — придется делить ее на всех; надери с молодых сосенок заболони, навари — казаки съедят, а сами не пошевелятся, чтобы подкормиться. Приглядываясь к промышленным людям, у которых жизнь была устроена по чину, юнец с досадой думал, что его товарищи неправильные.
Щуплый Третьяк в зипуне с длинными до колен рукавами сходил к ватажному костру, взял казацкий пай толокна — сиротской овсяной муки — и хлебного кваса. Рябой, Кривонос и Угрюмка стали заваривать толокно кипятком. Третьяк с Пантелеем Пендой съели его сухим, запили квасом и легли у костра, согревая то один бок, то другой.
Пенда щурился на угли и молчал, как молчал с утра до вечера всю дорогу. Рябой, присматривая за ним, пояснял, что его призорила дочка Иродова — тоской-кручиной сушит кости молодца, недугами мучит. Он знал старый заговор, от которого у той девки глаза бы сквозь затылок вылезли. Пенда его шептаньям не противился, но и на веру их не принимал. Рябой еще и себя лечил — свою то и дело открывавшуюся сабельную рану.
Кривонос зевнул, крестя рот, блеснул глазами, перевернулся набок. Из сивых спутанных с бородой волос выглядывала плешина лица, перечеркнутая глубоким рубцом со вздыбившейся пипкой ноздрей. При свете костра да без шапки — таким только нечисть пугать.
— Угрюмка! — прокашлявшись, позвал ласковым голосом. — Сходи послушай баюна, после мне расскажешь!