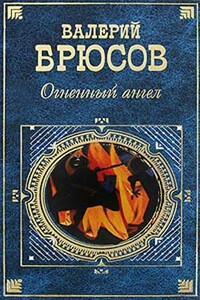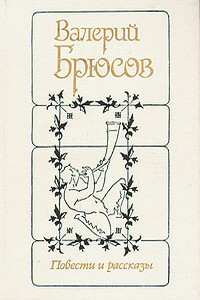«Пророк». Анализ стихотворения | страница 4
На язык понятий и логики стихотворение можно перевести так: поэт – человек обыкновенный, но свое вдохновение он получает свыше, с неба, и потому в его произведениях есть нечто сверхземное. Антиномия примирена, синтез найден: «человек» и «не-человеческое» синтезованы божественной силой. Противоречие объяснено: с точки зрения Пушкина, поэтическое творчество объясняется некоторым наитием, некоей силой, неизвестной в ряду естественных сил.
Можно ли было доказывать ту же мысль научным путем? – Можно. Для этого следовало бы анализовать содержание поэтического творчества или проповеди пророков. Далее следовало бы доказать, что в этом творчестве или в этих пророчествах имеются элементы, не объяснимые из обычной человеческой психологии. Из этого можно было бы сделать вывод, что, следовательно, в психологии поэтов и пророков имеются данные, показывающие на какое-то сверхъестественное влияние. Наконец, все это привело бы к тому же выводу, к какому пришел Пушкин: что вдохновение поэта объяснимо только божественным влиянием или вообще влиянием сил, о которых наши естественные науки ничего не знают.
Сто лет назад, во времена Пушкина, состояние науки, в частности психологии, было таково, что невозможность подобного доказательства вовсе не была очевидной. Доказать наличие каких-то особых сил в художественном творчестве наука, конечно, не могла, но и доказать, что гипотетическое допущение их – излишне, тоже была не в силах. Психология творчества была в зародыше, и поэтическое вдохновение казалось чем-то чудесным. Пушкин мог мыслить (или, вернее, чувствовать, так как был чужд философских спекуляций) свое художественное решение вопроса не противоречащим возможному рассудочному (научному) решению. Иного объяснения чуду творчества Пушкин не видел и прибегал к «божественному», «мистическому», как к единственно возможному решению, подобно тому, как и Наполеона он называл: «чудный (т. е. чудесный) муж»,