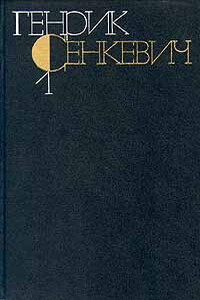Из дневника познанского учителя | страница 10
– Нет, у меня ничего не болит, но мне очень холодно.
Я немедленно приготовил ему постель и стал раздевать его, с жалостью глядя на его худенькие коленки и руки, тонкие, как тростинки. Потом заставил его выпить чаю и укрыл чем только мог.
– Теплее тебе теперь?
– О да! Только голова немножко болит.
Бедная голова, ей было от чего болеть. От усталости он скоро уснул, тяжело дыша во сне своей узкой грудью. Мне тоже нездоровилось, и, уложив, наконец, его и свои вещи, я тотчас же лет. Задул свечу и уснул в ту же минуту.
Около трех часов ночи меня разбудил свет и монотонное, так хорошо мне знакомое бормотание. Я открыл глаза, и сердце у меня беспокойно забилось. На столе горела лампа, перед ней в одной рубашке сидел над книгой Михась; щеки у него пылали, глаза были полузакрыты, как будто он напряженно силился что-то запомнить, голова откинулась, а сонный голос упорно повторял:
– Coniunctivus: Amem, ames, amet, amemus, ametis...
– Михась!
– Coniuctivus: Amem, ames...
Я схватил его за плечо:
– Михась!
Он проснулся и удивленно заморгал глазами, как будто не узнавая меня.
– Что ты делаешь? Что с тобой, дитя -мое?
– Повторяю все сначала, – ответил он улыбаясь, – мне нужно завтра получить «отлично»...
Я схватил его на руки и отнес в постель. Тело его обожгло меня, точно огнем. К счастью, доктор жил в этом же доме, и я немедленно его вызвал. Ему не пришлось долго размышлять, с минуту он послушал пульс ребенка, потом положил ему руку на лоб: у Михася было воспаление мозга.
Ах! Многое, видно, не могло вместиться в его голове.
Болезнь развивалась с угрожающей быстротой... Я послал депешу пани Марии, и на другой же день резкий звонок в передней известил о ее приезде. Едва отперев дверь, я увидел под черной вуалью ее белое как полотно лицо; пальцы ее с необычайной силой впились мне в плечо, а вся ее душа, казалось, устремилась в глаза, когда она коротко спросила:
– Жив?
– Да. Доктор говорит, что ему лучше.
Откинув вуаль, покрытую инеем, она вбежала в его комнату. Я лгал: Михась был жив, но ему не стало лучше. Он не узнал даже мать, когда она села подле него и взяла его руки. Только после того, как я положил ему на голову свежий лед, Михась прищурил глаза, с усилием вглядываясь в склонившееся над ним лицо.
Он, видимо, напрягал сознание, борясь с жаром и бредом, потом губы его дрогнули в улыбке раз и другой и, наконец, прошептали:
– Мама!
Она схватила его руки и так просидела несколько часов, даже не раздевшись с дороги. И, лишь когда я заметил это, она сказала: