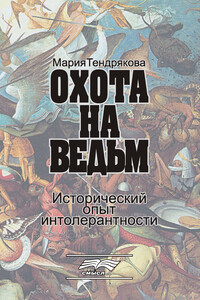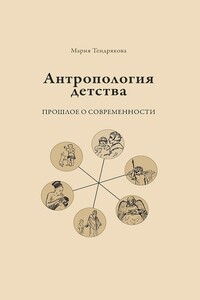Игровые миры: от homo ludens до геймера | страница 44
Часть III. Игра как механизм самопознания человека и общества
Глава 1. Игра как механизм исследования жизненных стратегий
…в Индии… Вселенная понимается как свободное
проявление божества, или, в конечном счете, его «игра».
М. Элиаде
От классификации игр к социологическому анализу
Можно ли во всем многообразии игр выделить их некие инварианты? Что стоит за пестротой историко-культурной вариативности игр? Какой посыл несет в себе игра для Homo ludens и в какие миры его увлекает?
Согласно Р. Кайуа, всем людям во все времена присущи такие потребности и пристрастия, как желание испытать себя, любовь к соперничеству, стремление к самоутверждению, желание порядка или, напротив, нарушения его и импровизации, а также упоение экстазом, головокружением, страхом, опьянением (см. подробнее: Кайуа, 2007: 94). Порою эти стихии, охватывающие человека, Р. Кайуа называет инстинктами, признавая их опасный и разрушительный потенциал. Но какова бы ни была природа этих интенций, принципиально важно, что они могут реализоваться в игре, где не повлекут за собой «полновесный результат»: игры, и это главное, «дадут душе прививку от их вредного воздействия» (Там же: 86).
Есть четыре основных типа игр:
– агон – все игры, где есть идея состязания и где у соперников в идеале абсолютно равные шансы на успех, где игроки прилагают все силы для достижения наилучших результатов;
– азартные игры (alea) – игра с фортуной, где от игрока ничего не зависит, игрок пассивен и не имеет шанса проявить себя;
– ролевые игры (mimicry) – различные пантомимы, драматизации, карнавалы и маски;
– и наконец, игры-головокружения (ilinx) – вроде раскачивания на качелях или на привязанных к дереву / шесту веревках, каруселей или разного рода кружений и вращений вокруг своей оси, которые связаны с особыми состояниями сознания, когда нарушается стабильность воспринимаемого мира (Кайуа 2007: 49–64, 72).
Все многообразие мира игры происходит из соединений этих четырех основных типов.
Но Р. Кайуа идет еще дальше, он предлагает взглянуть на игру как на своего рода ключ к пониманию всех процессов, происходящих в обществе. Это уже не просто социология игр, но социология, основанная на играх (Там же: 92–95).
Суть ее в том, что между особенностями культуры, ее приоритетами и ценностями и наиболее распространенными в них играми есть глубинные внутренние связи. В первобытных обществах, которые Р. Кайуа называет хаотическими (socie`te`s a` tohu-bohu), царят «маски и одержимость», что в его терминологии соответствует играм-иллюзиям, лицедействам, танцам до упаду, вращениям на месте, прыжкам с высоты и самым разным головокружительным пируэтам.