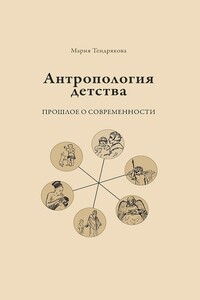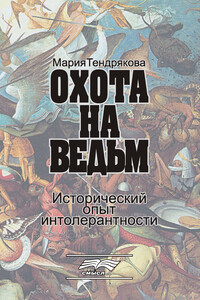Игровые миры: от homo ludens до геймера | страница 39
На рубеже XV–XVI вв. в Западной Европе также последовательно и повсеместно вводятся запреты на народные гуляния, танцы, карнавалы, а нарушители запретов караются (Гуревич 1987: 24, 30; Ирзиглер, Лассота 1987: 205–219; Даркевич, 1988: 220–224).
Это наступление на всякого рода развлечения связано с религиозными и политическими реформами и неотделимо от наступления на остатки язычества. Для идеологии и духа Нового времени было неприемлемо не только само язычество, но и свободное манипулирование нормами и символами, игровые метаморфозы «верха» и «низа», жизни и смерти, святого и богохульного. Но традицию не так-то просто прервать, а тем более отменить по приказу.
По мере наступления христианства на смеховую культуру и по мере усиления различных форм социального контроля архаичные игрища находят себе новые ниши для существования, где социальный контроль не столь строг (Лихачев, Панченко, Понырко 1984). Гонимая и отвергаемая новой исторической эпохой старина уже в виде развлечения, забавы, игр и игрищ уходит еще дальше на «периферию» культуры.
Отголоски язычества в детских играх
Следующей ступенью профанирования архаики (и следующим их прибежищем) становится детская субкультура. Магические некогда действия и практики превращаются в игры детей. Современные детские игры несут в себе отголоски архаичных ритуалов. Примеров тому множество.
Игра «Сиди-сиди, Яша» с хороводом, который водят вокруг сидящего в центре, перешла в разряд детских игр только в начале ХХ в. До этого игра в «Яшу» в разных вариантах была широко известна у восточных славян как молодежная посиделочная игра. В наиболее старых вариантах она называется «Ящер», и в тексте игровых припевок совершенно прозрачно звучит мотив женитьбы (Морозов, Слепцова 2004: 440–442):
В этой игре отражается архаический сюжет вступления в брак с персонажем с того света, будь он просто мертвецом или «ходячим» покойником, являющимся в облике фантастического змея (Морозов, Слепцова 2004: 440–442, 470).
Широко известна у многих народов детская игра в «Коршуна». «Коршун» ловит «цыплят», объясняя, что они «огород разоряют», а «матка» их защищает. (Вместо коршуна могут быть гусь, журавль, ворон и даже хозяин или дед.) Некоторые особенности поведения «коршуна» говорят о том, что он принадлежит иному миру: он и ямки роет, и золото ищет, и за селом живет, и «убитые» им «цыплята» превращаются в «коршунят» и начинают охотиться за «маткой». В XIX в. эта игра была привязана к календарному циклу, в нее играли в конце зимы и весной (Чередникова 2002: 55–64).