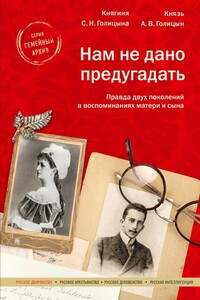Из пережитого | страница 27
Перед кашей хозяин с дружками в последний раз обходит гостей с водкой и торжественно и униженно просит «откушать». «До дна, до дна, не оставляйте на донышке зла», — подговаривает он пьющих.
После каши чашки накрывают целыми пирогами, и тогда только конец пиру.
А когда я участвовал действующим лицом, меня также величали и подносили рюмочку красного вина и также дарили дарами. Но это на «красном обеде», а когда жених приезжал за невестой к венцу, меня сажали за стол вместе с девичницами и приехавшие гости и дружки должны были выкупать у нас стол с невестой. Они гнали меня и грозили кнутом, а я все же не уступал и не сдавался, требуя, чтобы они выкупили невесту серебром, а не медью. И они клали в мой стакан двугривенный. И только после этого я выходил из-за стола, уступая невесту.
Отец невесты брал у меня из рук икону и благословлял ею жениха и невесту, опускавшихся на колени, причем говорил жениху:
— Даю тебе в жены свою дорогую дочку. Прошу любить и жаловать. Сам бей, учи уму-разуму, а другим в обиду не давай!
Потом благословляла и мать, и крестная, и меня и всех гостей снова сажали за стол и «на скорую руку» обносили вином, давали наставления: как и кому себя вести, а затем невеста, тоже наскоро, уходила в чулан и плакала там в последний раз, прощаясь с родными и с домом. Сейчас она должна была уезжать к венцу и в свой дом к отцу с матерью могла вертаться уже чужою женой, и только на время, как «отрезанный ломоть».
С этой иконой как «родительским благословением, навеки нерушимым», я шел впереди и садился почетным лицом в свадебный поезд и сопровождал невесту в церковь. А после венца молодой жене заплетали волосы на две косы и нас уже везли в дом жениха, где молодых встречали с хлебом-солью и осыпали зерном, а у меня брали икону и торжественно ставили ее в передний угол на божницу к другим семейным Богам, в знак того, что новый, пришедший в их семью человек, становился их «сородичем» и равноправным, пришедшим к ним со своими Богами.
До войны 1914 г. у нас насчитывалось 65 дворов, а в 1880-х их было только 32. И когда меня после школы, как хорошего грамотея, заставляли на сходках писать общественные приговоры, я с того и начинал писать, что «мы, нижеподписавшиеся крестьяне села Боровково, Лаптевской волости, Тульского уезда и губернии, собравшись в числе 25–30 человек от 32 всех домохозяев, в присутствии нашего сельского старосты (имя рек) слушали предложение о том-то и о том-то, или просьбу о том-то и о том и постановили единогласно то-то и то-то: отказать или удовлетворить».