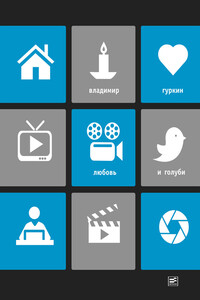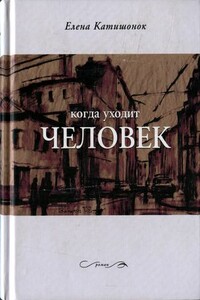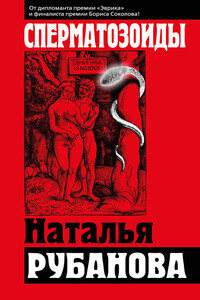Люди сверху, люди снизу | страница 42
Отмывались долго. После всеобщей истерики Нинка больше не появилась в грязной прокуренной комнате № 127. По слухам, она уехала на юг с довольно сомнительным типом, где сначала залетела, потом подцепила стригущий лишай и, совершенно лысая, вернулась автостопом в Москву. В это самое время в общагу приезжала Нинкина мать с сумкой продуктов – быстроговорящая седеющая женщина – и отчитывала Аню: «Подруга, называется! Да как же ты ее не удержала, как тебе не стыдно! И почему не позвонила? В первую очередь матери надо сообщить! Мы бы с отцом придумали… Ах, ну как же такое могло… И где же она теперь?» – быстроговорящая седеющая женщина, Нинкина мать, плакала на общаговской кухне. «Все самое лучшее у Ниночки всегда было, да! Все самое лучшее! И на кровать ее никто никогда не садился! Отличница, на бальные танцы ходила… Это все подружки московские, стервы… девочку мою…»
Последнюю драку в комнате № 127 еще долго помнил весь этаж. По слухам, Нинка бродяжничала в необъятной столице с месяц, а потом вернулась домой – больная и одуревшая.
Москва – златоглавая, хлебосольная, праздничная, Москва будничная, Москва без блата, со страхом и упреком, Москва ночная, злая, голодная, Москва нежная, хрупкая и ранимая, что и требовалось доказать, слезам и дуракам не…
Новый абзац.
Когда Анины силы после многочисленных работок и подработок оказывались на полшестого, она тихонько скулила в плечо голубого мальчика: «Устала, чуть-чуть устала, децл», и покупала портвейн, легко уходивший в два лица. Витька жалел Аню и иногда даже вызывался вымыть пол в кухне и коридоре в ее очередь, чем еще более обескураживал заплывающее жиром семейство Розако-вых, шептавшихся у него за спиной и подслушивающих под дверью их с клавишником любовь: тот оставался периодически ночевать. Сама мадам Розакова, в вечных бигуди и платьях неимоверных расцветок, ничего, кроме узколобой советской школьной программы по как бы литературе не прочитавшая, не видевшая в бесценной, бесцельно прожитой молодости ничего дальше собственной вагины, а перед климаксом – желудка, морщилась, глядя на эту странную дружбу. Сам же Розаков натягивал обвислые синие трикотажные штаны, заляпанную соусом майку и включал телевизор. Лишь его суррогатная реальность – окно в мир – действовала на семейство феназепамно, и ОНО, семейство, на какое-то время замолкало, представляя собой вариант идеальной ячейки кошмарного общества.