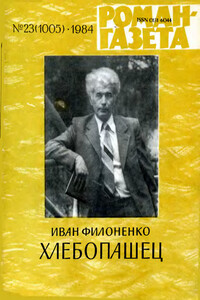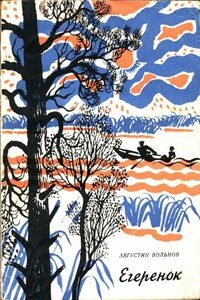Земные наши заботы | страница 39
Мне показалось, передо мной распахнулось сердце человеческое и стучит, стучит, стучит, пересиливая собственные боли и горести, — сигналы людям подает: тут, тут я.
— Вот и думаю, хорошим хозяйством становится только то, во главе которого стоит человек, для которого его должность и есть генеральская, с которой он — никуда. Он — хозяин, голова большой семьи. Другому человеку передать эту семью — может, и не сладится дело. Да настоящий хозяин и не передаст. Председательский пост для него не ступенька, с которой он в район, а то и в область прыгнуть норовит.
Стал я припоминать знакомых председателей. И обнаружил: все они «призыва» 1953–1954 годов, все они, возглавляющие передовые хозяйства, а среди них и Федор Степанович Васильев, действительно никогда не помышляли (а когда им предлагали — категорически отказывались) оставить председательский пост и занять кресло повыше. А значит, и отношения с начальством не боялись испортить правдивым словом. Когда нужно было, отстаивали интересы хозяйства и на авантюры не пускались.
Шли мы по деревне и любовались. Я — мастерством рук крестьянских, Сергей Иванович Бизунов — хозяин всей колхозной усадьбы, примечал то, чего я не видел. Тут же на улице остановил молодого специалиста, спросил:
— Уезжать, что ли, от нас собираешься?
Тот растерялся, начал оправдываться, что это наговор.
— Не в наговоре дело, — возразил Бизунов. — Во дворе твоем что–то пусто: ни собаки, ни животины какой; да и огород как та несжатая полоска..
Я заступился за него: мол, у специалиста и без того забот хватает, к тому же один живет.
— Вот и пусть семьей обзаводится, — с добродушной улыбкой ответил Сергей Иванович, когда мы одни остались, — пусть корни пускает. — И добавил: — Человек, вырастивший сад, в другое место не уедет. Как говорится, есть к чему душу приткнуть.
Признаться, тогда, а было это задолго до признания личного подсобного хозяйства, меня поразило такое отношение председателя одного из лучших на Смоленщине колхозов к этому самому личному подсобному хозяйству. Потому что встречать доводилось и таких руководителей, которые не только не подталкивали на обзаведение домашней живностью, садом и огородом, но открыто чинили всяческие препятствия и сложности, чтобы человека «ничто не отвлекало от общественного производства». Но больше встречал таких, которые относились к этому по принципу: есть — хорошо, а нет — еще лучше.
Спросил у Бизунова: мол, неужели в таком богатом колхозе нет возможности снабжать своих работников необходимыми продуктами питания, чтобы освободить их от лишних хлопот в огороде, в саду, в сарае?