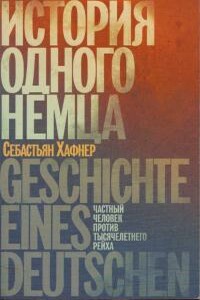Уинстон Черчилль | страница 70
И наоборот, если бы Англия и теперь, находясь в чрезвычайной опасности для своей собственной жизни, держала бы своё слово, что нападение на Польшу будет стоить Гитлеру жизни — и если она это слово в конце всё же сделает истиной: не сделает ли это ей честь, как ничто иное в её долгой истории? И было ли это действительно невозможно? Черчилль видел возможность: она называлась Америка.
Если теперь Америка будет поставлена перед альтернативой — поддержать Англию или видеть, как она погибает — тогда она должна будет Англию поддержать; потому что она не может позволить, чтобы Гитлер стал властелином Атлантики. Если же случится так, что Америка поддержит Англию, то тогда она раньше или позже должна также всецело принять участие в войне Англии: об это можно позаботиться. А объединённой силы Америки и Британской империи, полагал Черчилль, достаточно для полной победы.
Возможно, её было достаточно лишь в обрез. Безусловно, война будет долгой, ведь сама Англия не была же ещё полностью вооружена и мобилизована, а Америка к вооружению и мобилизации ещё и не приступала. Но долгая совместная война — не предлагала ли она, наряду со своими ужасами и страданиями, также и немыслимые, триумфальные и славные возможности сращивания? Если, одновременно с победой над Гитлером, возникло бы нечто вроде воссоединения англоговорящих народов — не ляжет ли к ногам их объединённой силы весь мир?
Можно доказать, что Черчилль уже в самые мрачные дни лета 1940 года ясно видел эти перспективы. Уже в августе, когда исход бушевавшей над Англией воздушной битвы не был предрешён и грозило вторжение (Англия мало что могла противопоставить на земле), он говорил перед парламентом о том, что Англия и Америка в скором времени должны будут несколько перемешаться между собой, и затем, переходя от грубоватых выражений к торжественным, он говорил о будущем единстве англоговорящих демократий, которые будут распространяться неудержимо, благодатно, величественно, как Миссисипи. И снова он имел в виду буквально, то, о чём говорил.
Однако за честолюбием государственного деятеля Черчилля для своей страны нам не следует также проглядеть и личное честолюбие человека, человека искусства, художника войны Черчилля, заботящегося о своей посмертной славе.
Оба они были реальными и действующими, и каждого из них было бы достаточно в качестве мотива. Великое видение Англии государственного деятеля, который не только со славой воплощает в реальность свои слова, но при этом также ещё и отпавшую почти два столетия назад Америку возвращает назад к новому, высшему единению. При этом также и жгучее личное честолюбие почти уже презираемого старого политика и военного специалиста, в течение всей жизни никогда не успевавшего вовремя на поезд, отвергаемого снова и снова, почти что уже потерпевшего провал, которому теперь, в крайней нужде, всучили в руки бесславно проводившуюся, неудачно сложившуюся, почти что уже проигранную войну и он считал себя способным и был полон решимости сделать, чего бы это ни стоило, величайшую победу всех времён. За государственным деятелем Черчиллем не следует проглядеть демона Черчилля — и разумеется, за демоном также не проглядеть государственного деятеля. То, что оба они в это мгновение одновременно поднялись до высшей степени — в последнее мгновение для Англии, которая реально уже была в самом затруднительном положении, но в последнее мгновение также и для Черчилля, который в шестьдесят пять лет как раз ещё раз мог подстегнуть свои оставшиеся жизненные силы для личного высшего достижения — это делает его человеком судьбы, а год от июня 1940 до июня 1941 навсегда делает всемирным годом Черчилля.