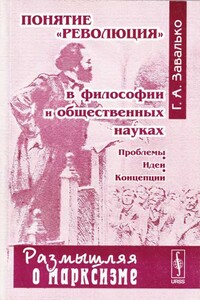Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков | страница 31
В то же время концепция памяти, характерная для индивидуального стиля Набокова-сочинителя, отнюдь не автономна, но тесно связана с коллективной памятью культурной среды русской эмиграции. Так, в «Даре» креативная память, реализуя потенциал Мнемозины непосредственного воспоминания и культурно-реминисцентной памяти, выполняет как функцию воскрешения прошлого, так и связи с культурной традицией классического русского искусства.
То же, по существу, мы видим и в художественном мире Булгакова. В «Театральном романе» креативная память воссоздает в воображении писателя действительное прошлое его жизни, а в «Мастере и Маргарите» Мнемозина иррационально-мистическая позволяет мастеру, сочиняя, угадывать «то, чего никогда не видал, но наверно знал, что оно было». Здесь уже
«…рассказ об Иешуа и Пилате, – по справедливому замечанию современных авторов, – существует <…> как некий нерукотворный пратекст, мистически открывшийся Мастеру, частично привидевшийся во сне Ивану Бездомному и частично рассказанный Воландом»[96].
Подлинный художник не только обладает знанием реальным, но наделен и сверхъестественным всеведением сочинителя-Демиурга.
Трехчастная структура креативной памяти в мистической метапрозе отражает понимание ее создателями отношения искусства к «действительности»: художник, благодаря творящему воображению, постигает мистический подтекст мира физического.
На уровне иррационально-мистической креативной памяти в произведениях Гессе, Набокова и Булгакова возникает мотив тайного задания, полученного писателем от высших сил и реализуемого им в своем творчестве.
Но главная фаза сочинительства последняя – сотворение новой, художественной реальности, не менее действительной, чем мир материальный. Именно в этой завершающей фазе свершается волшебство воскрешения художником прошлого.
Для Набокова цель искусства – создание произведения, подобного Вселенной и возникшего, как она, по воле автора в результате управляемого взрыва[97]. Свершается «волшебство» и рождаются новые миры. Писатель наделен волшебной способностью «творить жизнь из ничего» [Н1., T.1, c.498], точнее, из самой плоти языка: «Перед нами поразительное явление: словесные обороты создают живых людей» [Н1., T.1, c.459]. Метафоры здесь «оживают»: «постепенно и плавно <…> образуют рассказ <…> затем <…> вновь лишаются красок» [Н1., T.4, c.593] – этот принцип, намеченный еще в «Лолите», организует поэтику «Ады».