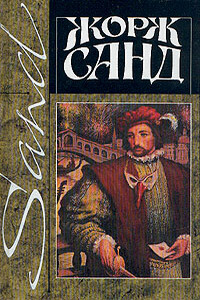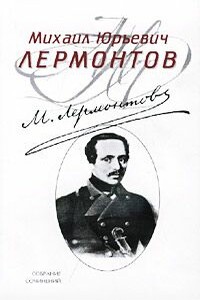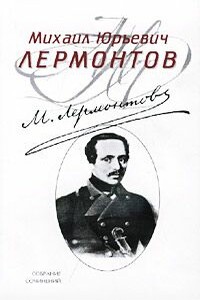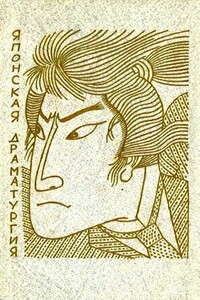Том 8. Театральный роман | страница 9
Превосходен монолог Максудова «о золотом коне»… Нет, он вовсе не согласен мириться с устоявшимися шаблонами знаменитого некогда театра, он протестует против сложившейся теории Ивана Васильевича: «не бывает никаких теорий!», «попрошу не противоречить мне, вы притерпелись, я же — новый, мой взгляд остр и свеж!».
Мучительно переживает Максудов неудачу с пьесой. Он запретил себе даже справляться о театре, он поклялся не думать о театре, но вскоре понял, что клятва глупая: думать запретить нельзя. И еще он пришел к выводу, что «писать пьесы и не играть их — невозможно».
Казалось бы, Максудов долго не возьмется за очередную пьесу, но вот неожиданно для него в одной из нижних комнат начали разучивать вальс, «и вальс этот порождал картинки в коробочке, довольно странные и редкие…» Так возникал замысел новой пьесы Максудова, отдаленно напоминающий «Зойкину квартиру» самого Булгакова.
И вот снова неожиданный поворот событий — Независимый театр, раскритикованный в печати за отрыв от современности, решил срочно ставить «Черный снег». И вот Максудов снова в театре, на репетиции своей пьесы, но эти месяцы резко изменили его душевное и физическое состояние: «…я чувствовал себя как бы избитым, все время хотелось присесть и посидеть долго и неподвижно». Да, он снова почувствовал себя нужным человеком, почувствовал себя «наново» родившимся человеком, жизнь снова обрела для него смысл, «жизнь моя изменилась до неузнаваемости», «как будто и комната у него стала другая, хотя это была все та же комната, как будто и люди, окружающие его, стали иными и в городе Москве он, этот человек, вдруг получил право на существование, приобрел смысл и даже значение».
Но самое тяжкое испытание еще впереди — за постановку пьесы взялся сам Иван Васильевич… Каких чудес только не происходило во время репетиции, каких сумасбродств не насмотрелся бедный Максудов, который все-таки еще плохо знал театр и никак не мог постигнуть тех нелепостей, которые творились на его глазах. В итоге репетиции стали его раздражать настолько, что «лицо начинало дергаться».
Три недели репетиций пьесы окончательно убедили Максудова, пришедшего в отчаяние, в том, что он «усумнился в теории Ивана Васильевича». «Да, эта теория не была, очевидно, приложима к моей пьесе, а, пожалуй, была и вредна ей».
Максудов разочаровался в теории Ивана Васильевича, но, «иссушаемый любовью к Независимому театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли…»