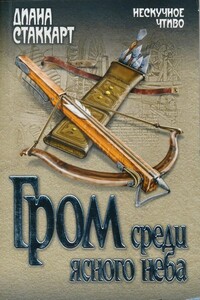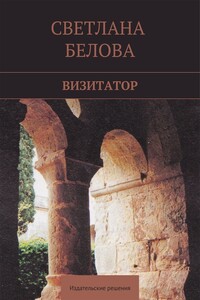Дело княжны Саломеи | страница 71
— Революционеров? Нет, что вы. Она была совсем далека от политики, и я лично это одобрял.
Большей частью сведения Коли пока сложно было назвать полезными, но следующая реплика мальчика ошеломила сыщиков настолько, что они снова не удержались от того, чтобы задать хором свой вопрос:
— Эсеры и всякие такие максималисты — это, скорее, к Афине… — размышлял вслух Коля.
— К кому?!
— Афина, есть такая…
— Так это реальный человек? Обычный, не богиня? — вскричал сам не свой Максим Максимович.
— Не обычный, нет, что вы! Афина Аполлоновна Чеснокова-Белосельская, такая знаете… — Коля покраснел. Шарманщик завел новую песню и вопил теперь, как оглашенный: «Сухой бы корочкой питалась». — Столичная этуаль, все кричит, что Саломея ее подвинула на троне. Но все это вранье. То есть я хотел сказать, что Саломея — это ангел, совсем не то, что Афина, она… другая. Они вращались в разных кругах. Хотя общество то же самое, конечно, куда от него денешься. Афина тоже своего рода блестящая особа. Но Саломея-то была блистательна.
Вскоре они расстались, уговорившись встретиться вечером и вместе пойти на спектакль, после которого Коля мог бы представить Грушевского с Тюрком самой Ольге. А пока Максим Максимович решил посетить чиновника Призорова, тем более что канцелярия охранки находилась недалеко от дома на Мойке, где в квартире на третьем этаже проживали князья Ангелашвили. Грушевский настроился осмотреть апартаменты юной княжны и принести соболезнования несчастным родителям.
Призоров встретил их дружелюбно, хотя видно было, что он жалеет о такой активной роли в деле совершенно посторонних людей. Впрочем, Грушевский ведь проработал в полиции почти всю свою жизнь, и нельзя сказать, что он был непрофессионалом. Зато вот Тюрк… Но и с ним ссориться было себе дороже, учитывая связи и родню Ивана Карловича. Ничего нового не произошло. Арестованных не допрашивали, а лишь побеседовали с ними. Хотя лакей говорить отказывался, в отличие от чересчур разговорчивого Зимородова. Грушевский испросил разрешения переговорить с Кузьмой Семеновичем, что скрепя сердце Призоров и позволил. Еще раз предупредив, чтобы сами посетители чего не выболтали.
— Здравствуйте, Кузьма Семенович, — поздоровался Грушевский, войдя в камеру временного заключения и усаживаясь на стул перед деревянной кроватью, на которой сидел старший лакей.
Все камеры в разных концах мира не призваны внушать радость ни посетителям, ни заключенным. Эта же выглядела самым последним местом, куда могла бы заглянуть хоть какая-нибудь радость. Унылые стены с обшарпанной краской были покрыты налетом тоски, как старая лампа многолетней копотью. Тусклое оконце под самым потолком, забранное решеткой, так мало пропускало света, что трудно было угадать время суток, глядя на него. Кроме железной кровати и прибитой прямо к стене столешницы, никакой другой мебели не наблюдалось, да вряд ли она вообще поместилась бы в такой тесной коморке.