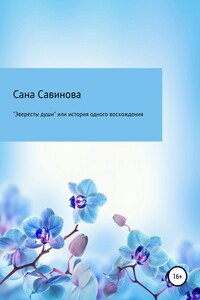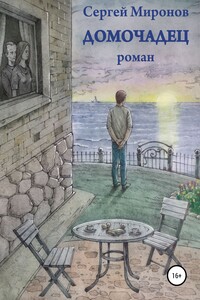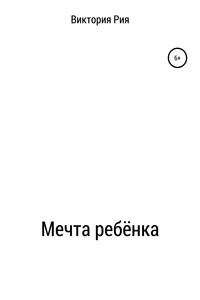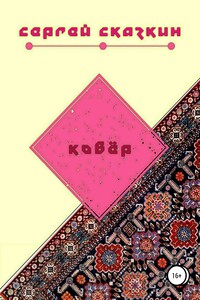Через не могу | страница 7
Соседи Лещинские (тоже по рассказам). Муж — поляк, приятель деда, кажется, офицер… жена Лизочка, болезненная, и двое сыновей. В 36‑м старшему семнадцать, младшему четырнадцать. Имя старшего неважно, а младшего — Кирилл. У меня сохранилась фотография вечеринки 36‑го года в квартире «тети Мани» на Загородном: конец стола, задвинутого в тюль эркера, и за ним наши с вами родственники, молодые и миловидные, в каких–то пикантных сочетаниях. Например, апдетитная жена маминого брата Вади хозяйски привалилась к инженеру Зимбицкому, тетки Таниному мужу… А у самого Вади лицо, которое американцы определили бы как «all russian boy»…[1] И вот где–то в середине этой самой вечеринки, веселой, как все «пиры во время чумы», раздался телефонный звонок. Хмуро звонил старший сын Лещинских: у Кирилла температура, он заболел, пусть родители идут домой. Лизочка нервно спрашивала в трубку: «Да что случилось? Он был абсолютно здоров!» Женщины сочувственно столпились у телефона. И вдруг в трубке раздался голос Кирилла, такой звенящий, что его слышали все стоявшие вокруг: «Мама! Не приходите! Здесь НКВД!..» И гудки. В мертвом молчании Лещинские оделись. Какой–то рационалист из гостей сказал: «Не ходите! Детей не тронут!» Лизочка только посмотрела на говорившего, и потом этот взгляд все художественно описывали… На следующий день правую часть ее лица парализовало — ночью взяли не только самого Лещинского, но и Кирилла. Когда началась война, старший сын увез Лизочку в Москву…
Война вымела и других соседей, осталась только семья «чужих» в девятиметровой каморке у лестницы — скромный и милый рабочий по фамилии, не поверите, Свинтусов, с революционно настроенной женой и сыном, не поверите, Гарри, моим ровесником. В этой же комнате, размером как раз в четыре гроба, жил призрак «брата Жени».
Интересно, что из всей войны я помню только два–три летних эпизода. Все остальное, как кажется, происходило зимой. Зимой и вечером.
А тут — день и жара, и дядя Вадя, мамин брат Владислав, дома «на побывке» (значит, перед отправкой на фронт, значит — летом или ранней осенью 41‑го).
Толстая годовалая кузина Ленка, с огромным бантом на трех волосинах, стояла у стула и самозабвенно ела манную кашу из глубокой тарелки. Меня, четырехлетнюю, эти воспитатели, мама и дядя, поставили на обеденный стол и уговаривали с него прыгнуть. Оба они, загорелые и белозубые, в майках, стояли шагах в полутора. Дядя протягивал руки и говорил: «Прыгай, не бойся, я тебя поймаю!» Мои страдания усиливались тем, что за минуту до этого он подбрасывал к высокому потолку и ловил Ленку, ее белые волосины взлетали от ветра, но толстая физиономия была совершенно спокойна, и глаз с терпеливой надеждой косил на кашу. А мне нужно было сделать всего один прыжок до его сильных рук, и я боялась. Я видела, что маме стыдно за меня — она стояла с напряженным лицом и все вскрикивала: «Да прыгай, трусиха!» Наконец дядя сжалился, шагнул сам и крепко стиснул меня в объятьях. Кажется, именно с тех пор в моей голове засело убеждение, что благородная снисходительность к слабости есть непременная черта мужского характера. А солдатский запах остался моим тайно любимым на всю жизнь — загара, курева и кожаных ремней.