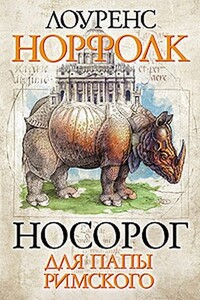Через не могу | страница 23
Чувство утраты пришло позже и, как многие другие потери в моей жизни, преобразовалось в упрек бабушке, в еще одну черную косточку на счетах наших с ней отношений.
Со смертью деда мы потеряли «служащий паек» и шанс выжить. Но в Ленинграде вымерзло, кажется, все, кроме блата, так что уже через неделю бабушка, никогда до тех пор не служившая, устроилась секретаршей в мужскую среднюю школу номер триста с чем–то, на углу улиц Правды и Социализма. Вместе со службой она получила приют в теплой канцелярии для себя и меня на восемь часов рабочего дня, паек и возможность подкармливаться в школьной столовой. Платой была пустующая дядина комната, куда вселились два дистрофика, желавшие умереть с ленинградской пропиской.
Школа, в которую бабушка поступила, до революции столетие с лишним была петербургской Первой мужской гимназией и помещалась в типично петербургском бело–желтом здании на углу Ивановской и Кабинетской. Учились там, из тех, кого помню: композиторы Глинка и Римский — Корсаков (кажется, и живший неподалеку, на Загородном), а до этого Вильгельм Кюхельбекер… А преподавал там Лев
Пушкин, к которому частенько заезжал туда племянник Александр… Ну, словом, это была мечта культуртрегера…
Свою новую должность бабушка называла (и от других требовала) «делопроизводитель», относилась к ней с дореволюционной чиновничьей добросовестностью, держала в столе туфли на каблуках и пенсне.
Как–то очень быстро она и в школе завоевала право распоряжаться — я думаю, ее неколебимая уверенность в собственной непогрешимости действовала на людей, даже и на интеллигентных. Кроме того, она была поразительно толкова в полубессмысленном деле бюрократии и охотно спасала учителей от неприятностей — в том случае, если они признавали ее, бабушкину, необходимость и полезность. И почти все соглашались на эту игру, за исключением, по–моему, особенно нервных и тонких людей. Но и они часто смирялись — во время войны инстинкт самосохранения, естестввенно, сильнее рефлексий и гордости. Бабушка же была воплощением этого инстинкта — комиссаром семейной безопасности.
Чтобы я не скучала, меня брали на уроки. Мальчиков в классах я презирала. Как и предсказывал «брат Шура», голодание давалось им тяжелее, чем девочкам — они были вялыми, тупыми, многие засыпали на уроках, разомлев в тепле, писались, и учительницам стоило неимоверного труда вдалбливать арифметику в шишковатые, обритые из–за вшей головы. Когда я выходила (задрав нос) из класса вместе с учительницей, они провожали меня такими взглядами, какими больная собака провожает обнаглевшую кошку, посмевшую пройти вблизи.