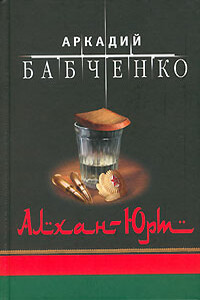Война | страница 20
– Отставить! – орет сержант. – Вы что, пидоры, строем ходить не умеете? Я вас сейчас научу! Рота!
Снова три строевых шага, и снова ничего не получается. Теперь уже почти полроты босы, солдаты стучат по асфальту пятками.
– Рота! – еще раз командует сержант, и солдаты опять со всей силы долбят пятками плац, морщась от боли.
– Гад! Они же так ноги совсем разобьют! – говорит Осипов. – Кость загниет, потом же не залечишь.
Андрюха знает, что говорит. Ноги у него гниют уже полгода, и каждая смена белья для него мука. Кальсоны присыхают к мясу, и ему приходится их отдирать. К вечеру у него в сапогах накапливается по полстакана гноя с лимфой. Но в госпиталь Андрюху не кладут, потому что такая беда у всех – в армии гниет каждый. Обычное дело. Вечная солдатская напасть – стрептодермия. И у меня, и у Зюзика, и у Тренчика ноги покрыты гнойными язвами. Но у Андрюхи на обеих ногах кожи нет от колена до самой пятки.
– А чего их так мало? – спрашивает Витька.
– Скоро будет еще меньше, – мрачно бурчит Осипов. – Этот гад сейчас полроты в госпиталь отправит.
– Запевай! – командует сержант.
В строю запевают. Красивый высокий голос взлетает над марширующей ротой, парень поет здорово, у него явный талант, и странно слышать этот совершенный голос посреди мертвого плаца, по которому марширует полурота босых избитых солдат.
– Может, тоже пойдем на прогулку? – предлагает Витька. – Вдруг нас потеряли? Вдруг сейчас командир полка на вечернюю поверку придет?
Мы сильно сомневаемся, что кто-то заинтересуется нами, вряд ли сейчас в полку вообще есть хоть один офицер, но на всякий случай решаем спуститься на плац – авось за прогулкой все же кто-то наблюдает из штаба. Несколько минут маршируем впятером. На плацу уже никого нет, все разошлись, пехотная рота тоже ушла.
– Эй, бойцы, идите-ка сюда, – зовут нас от одного из подъездов.
– Догулялись! – шипит Тренчик на Зеликмана. – Сейчас нам навешают. Надо было сидеть и не высовываться! Не пойдем никуда, сворачивай в казарму.
Мы игнорируем крики и, делая вид, что они относятся не к нам, очень быстро идем в казарму. У подъезда ржут.
Мы влетаем на второй этаж, быстро умываемся, не зажигая света, и ложимся спать. Простыней под одеялами нет, наволочки на подушках тоже отсутствуют. В матрасах столько пыли, что руки и лицо моментально становятся грязными.
Мне снятся вертушки. Они неслышно кружат высоко в небе над Москвой, над Таганкой, над моим домом, и из них весело сыплются серебристые листовки. Люди радуются, тянут руки вверх и хватают эти листовки. Моя мама стоит на балконе и тоже протягивает руки в небо. Она хочет поймать листовку с моим портретом, но меня болтает туда-сюда, как бабочку-капустницу, и относит в сторону. Я улыбаюсь. «Мама, – говорю я, – что ты делаешь? Это же не листовки, это пакеты с трупами, разве ты не видишь? Разве вы все не видите, сколько нас, мертвых. Ведь там идет война, а вы ничего об этом не знаете. Почему?» «Я знаю, – говорит мама. – Тебя уже убило». «Нет, я пока еще живой. Помнишь, я писал тебе, что я живой и меня не убьет. Я пока еще в казарме, мама, и у меня все хорошо. Здесь много людей, я не один, у нас все в порядке. Вот, посмотри». Казарма наполняется шумом, гулом, хлопают двери, какие-то люди ходят по расположению, включают свет, бренчат оружием. Я осознаю это сквозь сон, думаю, что это мне все еще снится. «Вот видишь, мама, это все мертвые. Они были в Чечне. А я еще в Моздоке, я живой…»