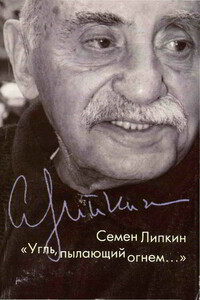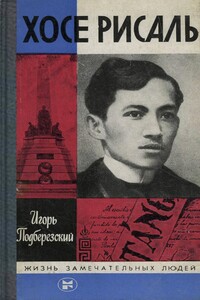Жизнь и судьба Василия Гроссмана ; Прощание | страница 88
Конечно, это суета сует, бесчувственному телу все равно где истлевать, но человек так устроен, что ему — живому — нужна такая суета сует, чтобы утихла боль утраты.
Хлопоты легли на меня. Союз писателей представляет собой министерство, и доступ к тем, кто все решает, не так-то прост. Я по старой памяти обратился за помощью к Николаю Чуковскому, который к тому времени высоко взобрался по бюрократической лестнице. Он сразу согласился мне помочь и повел меня к Тевекеляну. Не помню, кем был Тевекелян, то ли одним из секретарей московской писательской организации, то ли ее главным партийным. Будучи человеком восточным, он в отличие от русского на его месте умел казаться приветливым, сердечным, но я неплохо знал Восток.
С первых слов моего прежнего товарища в кабинете Тевекеляна я понял, что мне от Николая будет мало толку. Он сказал: «Видите ли, в последнее время я с Василием Семеновичем не встречался, мы разошлись», — и Тевекелян ответил с одобрением в голосе: «Да, да, я вас понимаю».
Я представил список писателей, выразивших согласие произнести речь на панихиде: Эренбург, Паустовский, Каверин. «А вы?» — спросил Тевекелян, обращаясь к Николаю Чуковскому. Тот отказался. Тевекелян не настаивал. Записав три фамилии, он мне сказал: «Мы подумаем, а по остальным вопросам обратитесь к Воронкову, я ему позвоню, чтобы он сейчас же вас принял».
Воронков был оргсекретарем Правления так называемого Большого Союза. Я отправился к нему один. Николай сказал мне, что он больше мне не нужен. И был прав. Воронков — важный, вернее, важничающий, чиновник — принял меня сухо, но я знал, что приветливость Тевекеляна равняется сухости Воронкова. Я положил на стол некролог, составленный мной и Эренбургом. «Оставьте, мы отредактируем и пошлем в „Литературную газету“», — сказал Воронков. Я спросил: «Неужели Эренбурга надо в этом случае редактировать?» — «Его-то и надо», — отрезал Воронков и улыбнулся беззлобно. И я еще раз понял, что все эти функционеры, в сущности, крепостные актеры, играют каждый свою роль, чтобы умилостивить господина, а не то — под ярем барщины, на скотный двор. Понял и то, что под этими гольдониевскими масками надо искать человеческие черты.
На другой день рано утром мне позвонил Тевекелян, сказал, что гражданская панихида состоится в конференц-зале Союза писателей, что выступать будут Евгений Воробьев, Эренбург и Александр Бек, что в крематории могу выступить я, но я должен свою речь написать и предварительно показать ему, Тевекеляну, что отредактированный некролог уже отправлен в «Литературную газету» и в «Советскую культуру», что я должен принести как можно скорее портрет Гроссмана и текст своего выступления, что вопрос о кладбище будет решен позднее, это не к спеху, поскольку речь идет об урне. Я спросил, все ли должны принести ему тексты своих выступлений. Тевекелян не ответил, сказал: «Жду вас к двенадцати».