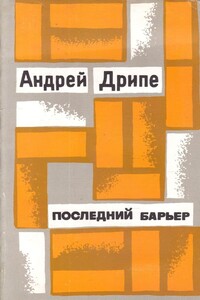Утро чудес | страница 38
— Нет, ничего. Географичка строгая, — начал я коряво. — Такой мощный предмет, столько интересного в мире, а она все по учебнику, шпарит от параграфа к параграфу. Ни одного случая не рассказала. Могла бы что-нибудь из путешествий Джеймса Кука или Магеллана. Или об испанских завоевателях-конкистадорах. Там такие дела…
— А нам она рассказывала на классном часе про вулканы. И еще про гибель «Титаника», — возразила Ирочка, не очень, правда, уверенно.
— На классном часе — на уроке, — проговорил я, теряя интерес к географической теме. Конечно, я мог бы рассказать Ирочке об испанских конкистадорах вместо Анны Петровны, читал я про них, но не покажусь ли я ей хвастуном?
…На следующий день и последующий мы снова гуляем в парке. Гуляем и молчим. Я уже не волнуюсь так, как в первый день, и мог бы, конечно, говорить о чем-нибудь. Например, о своих картинах или прочитанных книгах. Да мало ли о чем. Но говорить ни о чем не хочется, и я все время думаю о том, что дома на мольберте меня ждет картина «Ночная купальщица». В июне я почти не прикоснулся к ней. Правда, были на то серьезные причины — экзамены и вот работа на строительстве спортзала в школе. Но для художника — это, пожалуй, не оправдание. Все-таки можно было найти время для картины.
А в очередную нашу встречу я вдруг обнаруживаю, что у Ирочки не такие огромные глаза и косички совсем тоненькие. И вся она какая-то совсем не такая. Почему я решил, что Проявкина — красивая девчонка? Эсмеральда. Ничего особенного. Девчонка как девчонка. Да и не в одной красоте дело. Просто оказалось, что нам не о чем спорить. Ирочка ни разу серьезно не возразила мне, и мы ни разу не поссорились. А так, наверное, не бывает.
Словом, дружбы у нас не получилось. Но Лидке я об этом не сказал. Неловко, и вообще, какое Степанковой дело. Но вечерами я не ходил в парк, и Лидка однажды в разговоре насмешливо заметила:
— А твоя Проявкина все-таки дылда.
— Выдумываешь, — без энтузиазма возразил я, уклоняясь от разговора. По-моему, Лидка все поняла.
Наступил июль. Он принес зной и скуку. От терриконов, как от жаровен, понесло прогорклым чадом, и синеватая пыль под ногами, под автомобильными шинами стала ядреной. Старый цыган-жестянщик, делая утренний и вечерний обход наших улиц и покрикивая: «Чиню ве…о…дра…а…стрюли», только усиливал эту скуку, томление. Я всякий раз встречался с ним — бородатым, в нищенской одежде человеком с кругляшком жести на плече, когда шел на работу в школу или возвращался с нее. У жестянщика были тяжелые, остекленелые глаза. Они мертво сидели в глубоких темных глазницах, очень страдающие и гневные.