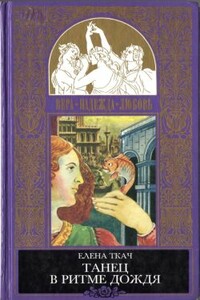Бронзовый ангел | страница 12
Ах, Миколка!
Михаил Валентинович Летов. А Микол — это в честь Николки из «Дней Турбиных» — мама придумала! Имя-то какое красивое… А он… Три года проучился в Бауманском — вышибли за участие в концерте памяти Галича играл на гитаре, пел. Армия как болезнь, как тяжелое поражение мозга… и как не свихнулся — не ясно. Стихи помогали. Он твердил их — любимые! — про себя, впаивая в ритм душу, удерживая сознание на краю паники, у кромки абсурда. Ритм стиха стал его мускулом и душа окрепла.
Вернулся из армии — мать заболела. Парализовало — инсульт. Сиделка была нужна: в дом престарелых он маму отдавать не хотел, а возле неё весь день не просидишь — зарабатывать нужно. Работал, где придется и как придется. Маляром, рабочим сцены, потом при маклере одном пристроился документы нужные собирал, квартиры бегал показывал… Но все свободное время пропадал по театрам. Странное это высвеченное пространство — сцена, где двигаются, и дышат, и произносят слова, и молчат, — оно притягивало его. Дневал и ночевал на Бронной у Эфроса, слушал капризный голос простуженной феи — Ольги Яковлевой… Реальность: деньги, карьера, семья нет, это не для него! Пусто. Скучно. Темно…
Умерла мама. Он со второго захода поступил в ГИТИС на режиссерский. Без взяток, без связей — талант! Пять лет полыхнули кометой. Молодость, розыгрыши, капустники, ночи в сигаретном дыму… Голуби ворковали на чердаках Арбата, где сиживали с актрисами и пили вино. Девушки льнули к нему. Он был строен, красив — хоть и невысок ростом. И часто шальные веселые искры загорались в глазах — он и впрямь был шальной. Безрассудный. И жадный. Ему мало было той реальности, с которой приходилось мириться, он ждал: рано или поздно приоткроется дверца и тогда…
Что за дверца, которая так манила его, что за детские игры, которых он не изжил… Что ж, выходит так и остался ребенком? Пожалуй что так. Только об этом никто не догадывался — он берег свое одиночество. Он верил в чудо… и ждал.
«Почему ты бросил меня, мой город? Почему ты теперь не живой? Или это я не живой? Я…»
Да, теперь, чуть оправившись, и выбравшись из больницы, он твердо знал это. Язву-то подлатали, тело выдюжило, а душа…
Москва давно приворожила его. Заразила тягой к несбыточному, как и многих, многих других, кого пробудила она — поэтов, художников, ответивших на её зов на языке своих совершенных творений. Мирискуссники, символисты, Булгаков — те, что жили в ней, те, что вплетали неповторимый узор своих помыслов в священную ткань — ткань жизни… И город жил и дышал под этим невидимым покрывалом, и тот, чье дыхание попадало в такт, становился избранным. Неофитом. Он выпадал из торопливой скороговорки будней, сметанных на скорую руку, и прорывался в иное пространство — живое, тайное, где нет ничего невозможного.