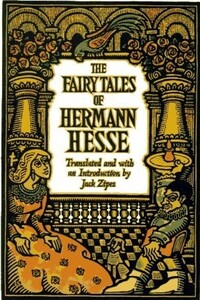Горькая правда | страница 11
С минуту Ликера стояла словно окаменевшая, но потом она рванулась вперед и припала к Харьку; грудь его была почти неподвижна, но из глубины ее доносились слабые отзвуки неимоверно частых ударов сердца, да и тело было горячо, как огонь. Успокоившись, что больной еще жив, Ликера подошла к образам и упала перед ними ниц в безмолвной мольбе; ни слов, ни мыслей не было в этой молитве, а был в ней один лишь вопль наболевшей души.
Смягчив умиленьем холод души, Ликера сняла с божницы изображение покрова пресвятой богородицы, припала к владычице с глубокой верой устами и, прикоснувшись образком к челу Харька, положила его на сердце больного. Но вдруг вспомнила, что так кладут образа только мертвым, и, торопливо снявши, поставила иконку на соседнее окошечко.
Оглянувшись по хате, Ликера заметила разбросанные на полу цветы и стала подбирать их: любимые Харьком гвоздики и оксамытки она собрала в два горшочка и поставила их у изголовья; под подушку ему положила любисток, а канупер разбросала перед полом, остальные же цветы сложила в букетики и позатыкала их за образа; потом переменила на голове больного компресс, закрыла ему осторожно нежной рукой глаза и, облобызав их, стала оправлять постель и подушки своему суженому. Опорядивши все и подметши даже хату, она опустилась на колени у изголовья умирающего и впилась глазами в эти искаженные недугом дорогие черты. Как обожженный молнией тополь вряд ли может своими поникшими черными прутьями напомнить пышное, убранное серебристыми листьями дерево с приподнятым гордо челом, так изможденное, высохшее, как мощи, лицо Харька не могло напомнить прежнего, полного обаятельной красоты, смеющегося и сверкавшего карими очами обличья, но для Ликеры этот скелет был еще более дорог, и в каждой черточке его воскресал милый образ и будил сладким ядом застывшее в ужасе сердце. Склонив лицо на приподнятые руки, она не сводила своих больших глаз с закрытых, подведенных синими кругами очей своего друга. Глаза ее были сухи и лучились мрачным огнем, но в темной глубине их таилось столько безысходного горя, что, казалось, оно-то и пережгло все источники слез… О чем думала дивчина, что чувствовала — и самой себе не могла бы она дать отчета; она лишь ощущала в сердце страшную пустоту и щемящий холод, а в голове непосильную тяжесть, давившую все ее мысли… Из таинственной мглы… лишь пережитое выплывало перед ней самовольно.
Знойный день… Жаворонки заливаются трелями… трепещущие кобчики неподвижно стоят в воздухе… а в недосягаемой высоте кругами плавают коршуны. Она идет узкой межой, а по обеим сторонам высокая колосистая пшеница… Трудно пробираться: колос ей хлещет в лицо, щекочет шею… а она идет; отслоняет стебли рукой и поет какую-то песню: весело, светло у ней на душе, как и на небе, ясном да синем. Вдруг на перекрестке кто-то, подскочив с тылу, закрыл ей руками глаза и давай целовать в вспыхнувшее обличье… Она крикнула, рванулась и хотела было оборвать сорванца за такую дерзость, но глаза ее встретились с глазами Харька, а в этих карих очах светилось столько кохання, столько зноя, сколько было его в солнце ярком, что обливало их потоками света. Она побледнела и потупилась; резкое слово застыло на ее устах; сердце забилось сладко и жутко…