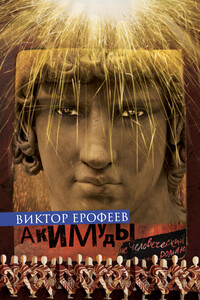Лабиринт Один: Ворованный воздух | страница 161
Оба героя мечтают о счастье. В какой-то момент они оба почти у цели. Если бы не была случайно разоблачена чичиковская афера с брабантскими кружевами, ему бы не нужно было разъезжать по России в погоне за мертвыми душами. Если бы Эмма смогла уехать с Родольфом в Италию, она бы, возможно, нашла свое скромное счастье. Но героям фатальным образом не везет, не потому, что они хуже других, а потому, что сделаны из другого теста. Они игроки, их жизнь — авантюра, азартная игра, и они расплачиваются за эту игру по-крупному: жизнью или потерей свободы. Может быть, именно поэтому читатель принимает их сторону, начинает видеть события с их точки зрения; человеческое несовершенство такого героя отступает на задний план: читатель уважает его за степень, за масштабность риска, и в этом смысле герой не только выше своего окружения, но и выше самого столь отчаянно не рискующего читателя.
Мы говорим о близости этих двух героев, но достаточно представить их вместе, рядом, чтобы понять, что они равномерны, что их существование протекает в различных плоскостях художественного бытия. Если искать формулу их различия, то она такова: гоголевские герои «Мертвых душ», включая Чичикова, представляют собою человекообразных монстров, похожих на людей, но людьми окончательно не становящихся. Сам Гоголь называл их «чудовищами» и утверждал, что «все это карикатура и моя собственная выдумка». Его изумило, что Пушкин при слушании поэмы этого не заметил, отнес «чудовищ» на счет самой России: «Боже, как грустна наша Россия!» Из этого восклицания Гоголь сделал вывод, что необходимо смягчить тягостное впечатление, и как будто решил разбавить излишне концентрированный раствор «чудовищности». Но восклицание Пушкина не лишено смысла. Гоголевские герои действительно явили собой квинтэссенцию пороков русской жизни — общественных, национальных, человеческих, — которые приняли антропоморфный вид. Их чудовищность была пропорциональна скорее имперской чудовищности, нежели собственно человеческой. Вот почему возглас Пушкина относится к России, а не к человеку, не к его природе, и чудовищность эта была отнюдь не злодейского, романтического свойства: это были не злодеи, а ничтожества. Так была реалистически изображена чудовищность ничтожества, пошлости.
Со своей стороны, Флобер в «Госпоже Бовари» также изобразил всю чудовищность ничтожества, дотоле не изображенную во французской литературе. Но он подошел к этой теме иначе, и здесь он гораздо ближе к Толстому и Чехову, нежели к Гоголю.