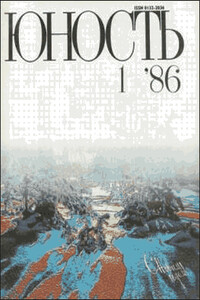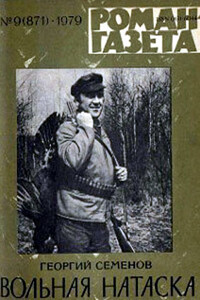Голубой дым | страница 72
Татьяна Родионовна, накинувшая на плечи вытертую шубу с кошачьим драным воротником, недоуменно вперилась в дочь.
— То есть как? Ночь на дворе.
Дина Демьяновна смотрела на эту седеющую, сивую, заспанную старуху, которая была ее матерью, на дряблую шейку, прикрытую посекшимся и рваным ворсом мертвой кошачьей шерсти, и неожиданная злость подхлестнула ее, и она взорвалась.
— Ну представь себе, — сказала она шипящим голосом, — что мне очень плохо. Что я одна и мне плохо. Что я могу сойти с ума или умереть. «Ночь на дворе!» Ах, как страшно! Вы будете с папой спать? Вам хорошо, да? А мне плохо! Очень...
Татьяна Родионовна выпростала руку из-под накинутой шубы и ухватилась за косяк.
— Дина! — сказала она задребезжавшим голосом, не сводя глаз с дочери. — Что?! Я не могу понять... Что? Объясни...
— Конечно, ты можешь только падать в обморок! Ах! Пугаться за меня, падать в обморок... А никто, ни ты, ни папа, ни я сама — никто не может ничего понять и объяснить мне! Никто! Боже мой! Никто...
Пришел на голоса всклокоченный Демьян Николаевич и, еще не проснувшись, спросил жутким каким-то, неживым голосом:
— Что происходит? — И, просыпаясь, переводил очумелый взгляд с дочери на жену.
Татьяна Родионовна повернулась к нему медленно, словно окостенела вся, и проговорила в нерешительности:
— Вот, Дема... она... Пойди там... спички... зажги...
— Что? Чего зажги?
— О господи! — в нервном нетерпении вскричала Дина Демьяновна. — Ничего мне не надо! — переходя на истерический вопль. — Ничего! Если можно еще спрашивать, «что происходит?». Если вы... вы такие жестокие и тупые, отупевшие друг от друга, от своей... Господи! Ничего не надо! Идите спать! Я сама... Идите!
— Иди, Дема! — возвысила голос и Татьяна Родионовна. — Сейчас же!
— Куда? Я ничего не пойму. Объясните в конце концов!
— Я же сказала, — взмолилась Татьяна Родионовна, чуть не плача. — Я же тебе велела... возьми газ... там спички... Зажги и поставь чайник. Диночка хочет есть.
Демьян Николаевич, стараясь взять себя в руки, подозрительно посмотрел на женщин и, откашливаясь, промолвил покорно:
— Так бы сразу и сказали. Сейчас. — И ушел.
Татьяна Родионовна, скинув шубу на пол, в одной измятой полотняной рубашке подошла к дочери, обняла ее и заплакала.
— Милая ты моя, — говорила она сквозь слезы.— Радость моя. Я все... я хочу тебе... я все готова сделать для тебя. Неужели ты могла подумать, — говорила она, протягивая дрожащую руку к ее голове, дрожащие пальцы к волосам, сухое их тепло на темя побледневшей и остывшей как будто бы, окаменевшей дочери. — Успокойся.