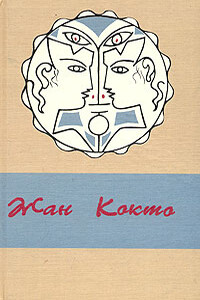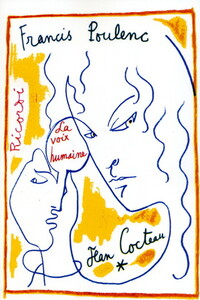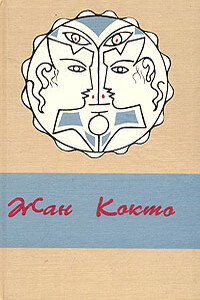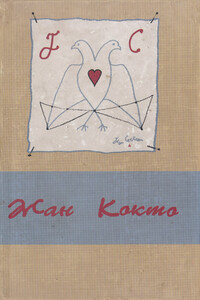Эссеистика | страница 83
Благодаря смеху бремя нашего знания становится легче. Эта легкость утешает нас, когда мы, с трудом передвигая ноги, тащимся на эшафот. Ложная серьезность ненавидит смех, потому что он выявляет душу. Он обнажает ее, точно молнией. Мне случилось однажды услышать из-за двери смех человека, в котором ничто меня не настораживало. Но его ужасный смех раскрыл мне этого человека таким, каким позже он предстал передо мной без маски.
Смех может произвести и обратное действие, и чья-то душа вдруг победит нашу сдержанность припадком детского хохота.
Я знаю одну любопытнейшую историю про безудержный смех. В 1940-м, в Германии, молодежь отправляли работать на военные заводы. Одного молодого человека из Эссена, служившего в компании Круппа, выгнали с предприятия за то, что временами на него нападал буйный смех. Его перевели на другой завод. Но куда бы его ни направляли, отовсюду его гнали за то, что он смеется. Наказывать его не наказывали. Больше упрекнуть его было не в чем. От него избавлялись. В конце концов его отправили домой, снабдив справкой, которую я увидел в 1946-м: «Неизлечимое легкомыслие».
Убивать в человеке смех — преступление. Именно это происходит, когда человека заставляют заниматься политическими проблемами, вынуждающими его воспринимать себя всерьез, и требуют от него совета там, где он ничего не смыслит. Человек перестает смеяться. Он начинает важничать. То же самое происходит, когда, наоборот, к нему не идут за советом и держат его в ежовых рукавицах.
Пьер Руа>{116}, которого я расспрашиваю о его политических взглядах, заявил: «Я умеренный анархист». Думается, он нашел точную формулировку и вся Франция подвержена этому умонастроению.
О бытии вне бытия
Теперь я должен найти свое место в доме, где я пытаюсь снова заснуть. Я прекратил всякие сношения с Парижем. Там распечатывают приходящие мне письма и отсылают сюда лишь самые важные. Я ни с кем не общаюсь. Моя крапивница, наоборот, проснулась. В очередной раз замечаю, что ей нравится хорошо себя чувствовать, она пользуется моим растительным состоянием. У меня горят руки, лоб, грудь. Вероятно, моя хворь того же происхождения, что и астма, поэтому я неизлечим и могу рассчитывать лишь на временные улучшения. Я бегу солнца, на котором раньше так любил греться. Я хожу вдоль него по теневой стороне. Остальное время сижу взаперти. Читаю и пишу. Одиночество вынуждает меня быть сразу и Робинзоном, и его островом, исследовать самого себя. Я не вношу в это занятие никакой изощренности, коей просто не обладаю, зато предаюсь ему с отвагой, мне свойственной и заменяющей мне ум.