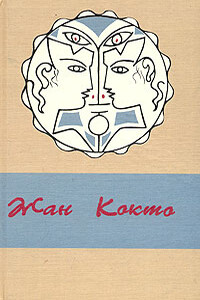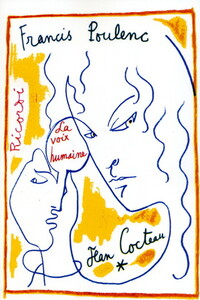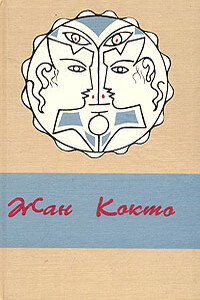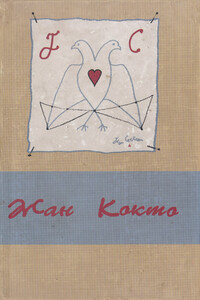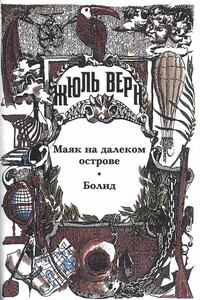Эссеистика | страница 79
Не смейтесь. Замечательна и благородна та эпоха, в которую умы озабочены такими мелочами. И прав Пикассо, утверждающий, что то правительство, которое будет наказывать художников за ошибки в тоне или в линии, будет великим правительством.
Вернемся к нашему поэту. Карательное заседание, увенчавшее «Груди Тиресия», оставило у нею чувство горечи. Во время заседания он дергался, как воздушный змей на веревочке. И в воздушного змея превращался. Невесомый, воинственный, он дергал эту веревочку, рвался ввысь, метался из стороны в сторону. Он говорил мне, что «сыт по горло» художниками, и добавлял: «Они у меня уже в печенках с этими их структурными построениями». Странно было это слышать из уст того, кто стоял у истоков победы над подражательством. Но сейчас ему нужен был размах крыльев Учелло, а художники — пусть себе пасутся на лугу, заросшем ядовитой травой.
За исключением Пикассо, этого десятиглавого орла, полновластного владыки в своем королевстве, все остальные кубисты бросились снимать мерку с предмета. Вооружившись сантиметром, одни корыстно заставляли предмет служить себе. Другие потрясали кальками, цифрами, толковали о золотом сечении. Третьи возводили каркасы и дальше этого не шли.
Аполлинер обходил одну за другой все группы, уставал. Вероятно, именно усталость подтолкнула его на тот склон, что привел к смерти. Любил он только невозможные сюрпризы. Он изнемогал. Горевал о судьбе своего поколения, принесенного в жертву, оказавшегося, по его словам, меж двух стульев. Он искал убежища у Пикассо: тот не ведал усталости. Аполлинер ни на секунду не мог себе представить — воистину, самобытность сама себя не сознает — что вскоре выйдет в открытое небо и станет созвездием.
Созвездием, что повторяет форму его шрама — того, который предсказал ему де Кирико>{110} на одном из своих полотен.
Так вот обстоят у нас дела. Все у нас происходит в соответствии с математическими законами, отвергаемыми математикой. Просто у нас своя математика. В конечном счете, все в порядке, ничто не хромает. То есть хромает все от начала до конца.
На скале спасшихся после кораблекрушения нас становится все меньше, Аполлинер поет нам. Берегись, коммивояжер! Это Лорелея!
То, что я написал, даже не этюд. Не мое это дело. Я ограничиваюсь несколькими штрихами, набрасываю силуэт, схватываю движение, на лету вонзаю в насекомое булавку. Это как тот профиль Жоржа Орика, где сходство заключено в положении глаза, являющегося не более чем точкой. Пусть другие анализируют Аполлинера, его магию, основанную, как и полагается, на свойствах лекарственных трав. Он собирал их от Сены до Рейна. Варево, которое он помешивает в котелке на спиртовой горелке, свидетельствует о том, насколько его епископская натура падка на всякого рода святотатства Аполлинера можно представить себе на коленях, в роли полкового священника, служащего обедню; а можно — возглавляющим какую-нибудь черную мессу. Он может вытаскивать осколки снаряда из раны — и втыкать булавки в восковую куклу. Мы видим его на троне инквизитора — и на костре в Испании. Это и герцог Александр, и Лоренцаччо