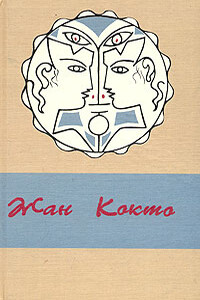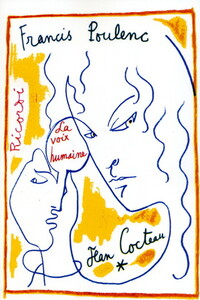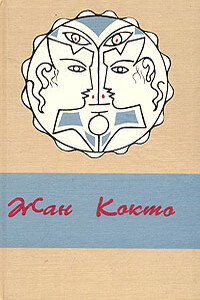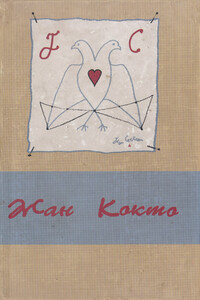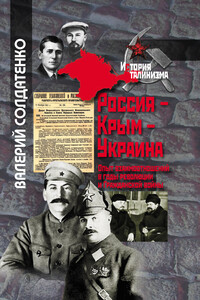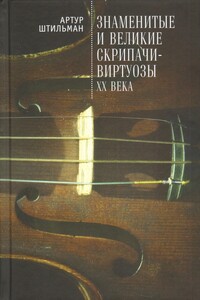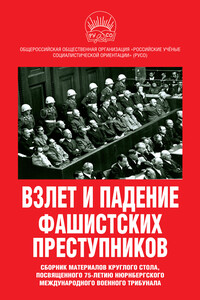Эссеистика | страница 40
Тем не менее, он был кумиром, и неспроста. Он весь был устроен так, чтобы смотреться издалека, в огнях рампы. На сцене его чересчур мощная мускулатура выглядела статно. Он становился выше ростом (пятки его никогда не касались пола), движения рук превращались в листву, лицо сияло.
Те, кто не был свидетелем этого, с трудом могут представить себе подобную метаморфозу.
Балет «Видение розы», увенчавший его творчество, после 1913 года Нижинский танцевал неохотно. Потому что хореография «Весны священной» шокировала публику, а он не мог смириться с тем, что один балет встречают овациями, а другой освистывают. Мы инертны и тяжеловесны. Нижинский без конца придумывал разные хитрости, чтобы довести свой танец до совершенства.
Он заметил, что половина прыжка, завершающего «Видение розы», не видна из зала. Тогда он изобрел двойной прыжок, в конце которого резко выворачивался и приземлялся за кулисами совершенно вертикально. Там его обхаживали, точно боксера — горячими полотенцами, пощечинами и водой, которой его слуга Дмитрий брызгал ему в лицо.
Незадолго до премьеры «Фавна», на ужине у Ларю, а затем еще несколько дней кряду, он удивлял нас странным нервным тиком с запрокидыванием головы. Дягилев и Бакст забеспокоились, стали его расспрашивать, но ответа не получили. Позже мы узнали, что это он репетировал, как будет трясти рогами. Я могу припомнить тысячи примеров, как он продумывал роль и при этом становился мрачен и неразговорчив.
В отеле «Крийон» (Дягилев и Нижинский постоянно переезжали из отеля в отель, спасаясь от судебных исполнителей), он надевал махровый халат, надвигал на голову капюшон и записывал хореографию своих танцев.
Я видел, как он создавал все свои роли. Смерти его были душераздирающими. В «Петрушке» смерть куклы так человечна, что у нас выступали слезы. В «Шехеразаде»>{35} он бился о сцену, как рыба о дно лодки.
Сергей Дягилев носил шляпу, меньше которой, казалось, нет во всем мире. Но если бы ее надели вы, то влезли бы в нее по уши. Просто голова у Дягилева была такой величины, что любой головной убор был ему мал.
Балерины звали его «Шиншилла» — за седую прядь, оставленную в крашеных густо-черных волосах. Он втискивал себя в шубу с воротником из опоссума и временами закалывал ее английскими булавками. Лицом он походил на дога, улыбкой — на молодого крокодила с торчащим наружу клыком. Пожевывать было у него признаком наслаждения, страха или гнева. Затаившись в глубине ложи и покусывая губы, над которыми топорщились короткие усы, он наблюдал за своими артистами; он не спускал им ничего. Его влажные, прикрытые тяжелыми веками глаза напоминали португальских устриц. Он возил по миру балетную труппу, столь же беспорядочную и пеструю, как нижегородская ярмарка. Единственной радостью для него было открыть звезду. Однажды мы оказались свидетелями того, как из русского гетто он привез тощую, длинную и сумрачную мадам Рубинштейн. Она не танцевала. Она появлялась, показывала себя, совершала несколько телодвижений, проходила по сцене, затем исчезала, и лишь иногда (как в «Шехеразаде») отваживалась на некое подобие танца.