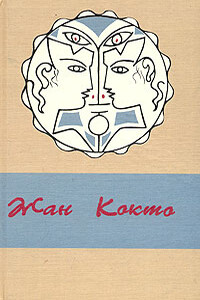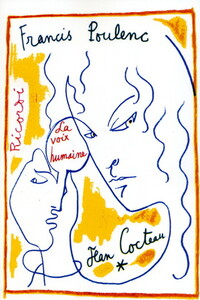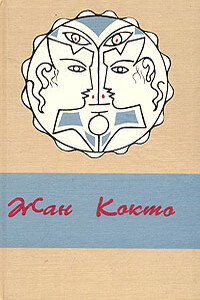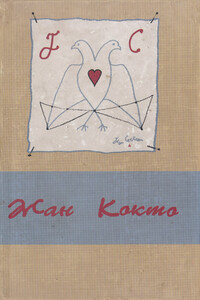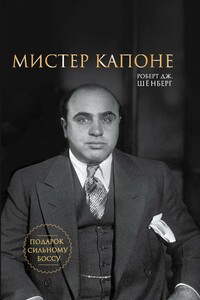Эссеистика | страница 18
Френьо: Если бы у вас случился пожар, какой любимый предмет вы бы вынесли из огня?
Кокто: Наверное, я вынес бы огонь.
Френьо: Вы бы хотели бы или когда-нибудь хотели в какой-то момент вашей жизни принадлежать некоей политической партии?
Кокто: Я и есть партия!
Френьо: Какая?
Кокто: Она довольно суровая, она отдает мне приказы, которым я должен повиноваться; она не позволяет мне делать ничего, что мне нравится, она требует беспрекословного подчинения и полного уничтожения моей личности.
Френьо: Вы меня пугаете! И что же это за партия?
Кокто: Моя. Это великая вечная война единичного против множественного, и, к сожалению, она становится все более серьезной, поскольку мир теряет индивидуальность и все больше ориентируется на множественное число».
Хотелось бы поделиться, что с каждым новым произведением Кокто, опубликованным в России, черты этого художника будут проступать все отчетливее, и его интонации станут более узнаваемыми.
Надежда Бунтман
ТРУДНОСТЬ БЫТИЯ[12]
Я браню себя, что наговорил слишком много такого, о чем надо говорить, и слишком мало того, о чем говорить не стоит. Вещи возвращаются к нам, стиснутые образовавшейся вокруг них пустотой, так что и сам уже не знаешь, а не пригрезился ли тот поезд, что вез в фургоне велосипеды. Но почему так, Боже мой? — Да потому что площадь (я представляю себе площадь Сен-Реми-сюр-Дёль или Каде-Русселя, или любую другую площадь с грязными аспидными крышами) круто спускалась под откос и оканчивалась у проклятого дома — а может, и не проклятого, — где мы сидели за столом. С кем сидели? Какая на нас была вина? Я уж и сам не знаю. Но этого вполне достаточно, чтобы я вспоминал об этом и о той покатой, залитой солнцем площади — хотя ни числа, ни названия места, ни имен и подробностей я все равно не воскрешу в памяти. В моих воспоминаниях эта площадь, эта эспланада солнечного света, застыла в таком шатком равновесии, что меня начинает мутить при одной мысли, что она все еще существует где-то в пространстве, перед низеньким домом, со всеми этими людьми внизу.
Да мало ли о чем не стоит говорить! К примеру, о ярмарке на другом берегу Сены (может быть, в Сартрувиле), где я заблудился неподалеку от плавучей прачечной, на которой красовалась вывеска: «Мадам Леванёр». Там курили сигары из какао. Эти сигары имеют не больше разумной, человеческой связи с действительностью, чем Французская академия или Министерство связи.
Или о шали, которой укутана моя голова. О холоде, веющем от ледника, о названии «Интерлакен», о цветке эдельвейсе, о фуникулере, который начинается внизу, где торгуют холодным пивом, — этакий залп крупной дробью прямо в висок — и заканчивается в вышине стеклянным строением, цикламенами, желтыми бабочками и пасторами, которые умертвляют их хлороформом, а потом распинают на пробке.