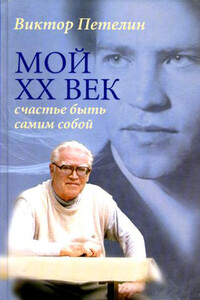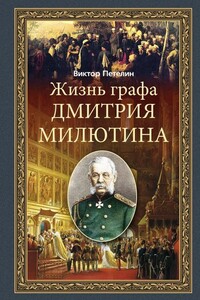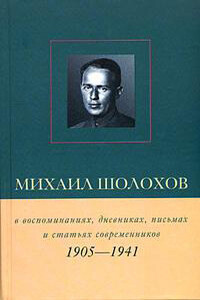Алексей Толстой | страница 39
— Да, я согласен, интеллигентную публику, которая обычно собирается на премьеры, наверняка покорили бы ее исключительные художественные достоинства.
Алексей Толстой и Алексей Аполлонович Бостром всю дорогу говорили только о театре, и оба остались довольны разговором. Давно уже они не оставались наедине и давно так не наслаждались взаимопониманием.
На следующий день Бостром писал в Самару: «Были мы вчера (то есть 15 февраля 1903 г. — В. П.) в театре на Чайке. Ведь хорошая вещь. Совсем иное впечатление, чем при прочтении или представлении в Самаре. Как бы хотелось видеть другие вещи в этом роде, вообще новый реализм Чехова и Горького».
В апреле в Петербурге начались гастроли Московского Художественного театра. Сколько разговоров, слухов, даже сплетен ходило вокруг нового театра. Что это за «содружество равных во имя искусства», где нет ни бедных, ни заведомо талантливых, ни безнадежно бездарных, где миллионер Савва Морозов чинит электрические провода, а машинист сцены обсуждает постановку пьес, где актрисы одеваются со скромностью гувернанток, а актеры — с тщательностью банковских служащих?! Ничего подобного, кажется, не было еще в России. И неужели действительно статистов пробуют в ответственных ролях, а исполнители главных ролей участвуют в массовых сценах наряду со статистами? Интересно, размышлял Алексей Толстой, что же из этого получилось и долго ли они продержатся на том же уровне, ати братья и сестры во имя искусства?
«Дядя Ваня» Чехова в постановке театра раскрыл ему что-то новое и в Чехове, и в самой жизни. Да, так оно и бывает: талантливый Астров и поэтически-нежный дядя Ваня прозябают в провинции, а ничтожный профессор блаженствует в Петербурге, отравляя своей глупостью многих молодых людей. Сколько таких случаев уже мог наблюдать Алексей Толстой в Сызрани, Самаре и Петербурге.
И вот он снова в театре. На этот раз с Юлей. Смотрел «На дне» и удивлялся снова и снова, насколько могут, оказывается, извратить подлинный смысл горьковской драмы, о которой он наслышался за эти недели всяческой чепухи. Рядом с ним сидели богато одетые дамы, офицеры, знатные люди, которых передергивало от того, что они видели на сцене. Вспомнились ему и те, которые ругали, пьесу, называя ее грубой, циничной, не соответствующей правде жизни. Его недавние собеседники, ругавшие Горького, ничего не поняли — ни философии «босяков», ни замысла автора.
Несколько дней спустя он сел за письменный стол и за один присест набросал рецензию о двух просмотренных пьесах: «Теперь у нас два больших художника — Чехов и Горький… Первый показывает безнадежно отчаянные картины обыкновенной жизни и ставит «аминь» над смыслом этой жизни. Второй показывает свежие растения, красоту и силу в новой незнакомой среде…»