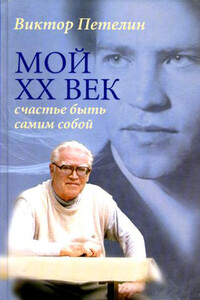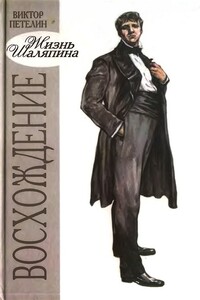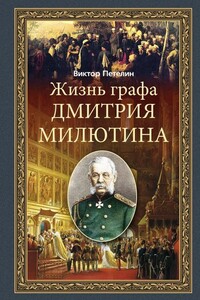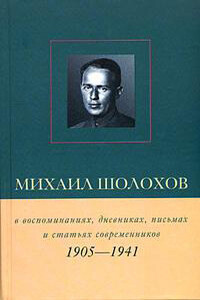Алексей Толстой | страница 20
Кризис прошел, он уже не погружается в обдумывание своего положения, своих отношений к окружающим, он решился подчиниться, принять такие отношения, какие для него создаются не им, а мною, и войдя в них, почувствовал себя вновь хорошо.
Невольно это отражается и на его отношениях к Аркадию Ивановичу. Он вновь ласков и с ним. Свою изобретательность, наблюдательность, распорядительность он снял с нас, с людей, и перенес вновь на вещи: книги, инструменты и т. д.».
Ну вот, Леля, а остальное тебе неинтересно.
Алеша слушал внимательно, глаза его горели от нетерпения.
— Папа, как ты все угадываешь, что со мной делается?..
— Ну что тебе, стыдно хоть немножко? Не будешь теперь ко мне придираться?
— Да, папуля, правда стыдно. Но почему я тогда не замечал этого? А что еще ты маме написал?..
Так и всегда. Мать читала ему письма отца, а отец читал ему письма матери, а если не прочтут, то сам отыщет и все равно прочитает. «Ты, мамуля, секретов лучше не пиши, я ведь ужасный проныра», — писал он матери 14 января 1895 года.
Поэтому он хорошо знал, почему мать уехала в Москву, а потом в Питер: отец никак не может расплатиться с губернской управой. Всюду словно ожидают его неудачи, противные кредиторы. Очень цепко впиваются в отца и подолгу не отпускают его из Самары, а теперь и мать уехала. Какой-то злой рок их постоянно разлучает, и этому, видно, не будет конца.
В. А. Поссе, врач и революционер, побывавший в Самаре и Самарской области в 1892 году, вспоминал: «Утром подъехали к Самаре, красиво рассыпавшей свои церкви и дома по холмистому берегу Волги… Широкие улицы, новые деревянные дома, далеко отстоящие друг от друга, церкви с широкими площадями. Просторно, но неуютно, бивуачно: будто город отстроился после сильного пожара. Ни зелени, ни украшений, ни памятников старины… Самара показалась мне громадным балаганом, где холодно и пусто. Впрочем, это впечатление быстро рассеялось под влиянием того радушия, которое я встретил в интеллигентных семьях Самары. В это время там было два культурных центра, два культурных дома — Якова Львовича Тейтеля и Вениамина Осиповича Португалова.
Они конкурировали своей культурностью, своим гостеприимством и недолюбливали друг друга. Оба евреи, но Португалов — крещеный, а Тейтель — некрещеный. Португалов — высокий, красивый мужчина с пышной рыжей шевелюрой и роскошной бородой. Тейтель — маленький, плотный, черный, с густыми усами и бритым подбородком. Португалов — врач и публицист, старый сотрудник «Недели»… Тейтель был в то время судебным следователем… Кроме Португалова и Тейтеля, вспоминаю еще одного самарского интеллигента, председателя губернской земской управы Бострома. (Здесь автор ошибается: Бостром был всего лишь членом губернской земской управы. —