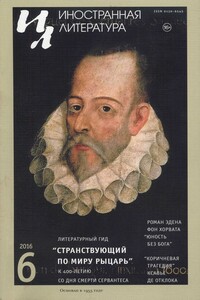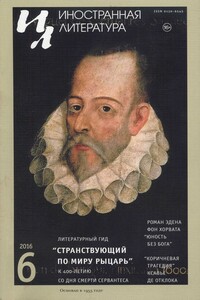Юность без Бога | страница 7
Подавив волнение, спрашиваю как бы между прочим:
— И кто это написал?
Никто не вызывается.
— Ну же, не бойтесь!
Не двигаются.
— Хорошо, — говорю я, поднимаясь. — Меня больше не интересует, кто это написал. Вы же все подписались. У меня тоже нет ни малейшего желания преподавать в классе, у которого нет ко мне доверия. Я считаю, уж лучше с чистой совестью… — И тут я запинаюсь, заметив, как один из них пишет что-то под партой. — Ты что там пишешь?
Он пытается спрятать написанное.
— А ну-ка, дай сюда.
Отбираю у него запись, он глумливо ухмыляется. Записал каждое мое слово.
— Ах, вы будете за мной шпионить?
Он улыбается.
Я иду к директору, рассказываю ему, что произошло, и прошу дать мне другой класс. Он усмехается: «Вы думаете, другие будут лучше?» Потом провожает меня обратно в класс. Он бранится, он кричит, он неистовствует — великолепный актер!
— Какая наглость, — грохочет он, — что за гнусность, болваны, какое право имеете вы требовать другого учителя и что вам в голову взбрело, с ума вы посходили, и т. д. — А потом опять оставляет меня одного.
Вот они сидят передо мною. И как же они меня ненавидят! Уничтожили бы меня только потому, что невыносимо им слышать, что негр тоже человек. Да сами вы нелюди!
Ну погодите, друзья! Чтобы я из-за вас получил взыскание? Лишился своего куска хлеба? Чтобы мне стало нечего жрать? Обуть, надеть? Чтобы я потерял крышу над головой? Нет, этот номер у вас не пройдет! Впредь я вам буду рассказывать, что людей вообще нет, никого, кроме вас, и буду говорить так, пока негры вас не зажарят! Только этого вы хотите, и ничего другого!
Чума
Вечером того же дня мне не хотелось ложиться спать. Я пересматривал стенограмму своей речи и понимал — да, они хотят меня уничтожить. Будь индейцами, они привязали б меня к шесту и скальпировали, и, главное, — с чистой совестью.
Убеждены в своей правоте.
Жуткая банда!
Или я их не понимаю? Неужели в свои тридцать четыре я стал уже слишком стар? Или разрыв между нами больше, чем обычно между поколениями?
Сейчас мне кажется, что его не преодолеть. То, что эти ребята отвергают все, что для меня свято, даже еще не так страшно. Хуже, как они это отвергают, — ведь ничего не знают. Не знают — и знать не хотят.
Всякое размышление им претит.
Им плевать на людей! Они хотят быть машинами: винтами, колесами, колбочками, ремнями. А еще охотнее, чем машинами, они стали бы боеприпасами: гранатами, бомбами, шрапнелью. А с каким удовольствием они издохли бы где-нибудь на поле боя! Имя, высеченное на памятнике павшим, — мечта их юных лет.