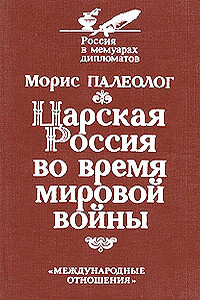Записки. Из истории российского внешнеполитического ведомства, 1914–1920 гг. Книга 1. | страница 8
Рассказы о личных переживаниях и тревогах автора перемежаются с весьма обстоятельными и совсем не казёнными «родословными» политических карьер тех, кто вершил судьбы России, кто оказывал существенное воздействие на формирование её внутриполитического и международного курса.
Точные и профессионально безукоризненные отчёты о переговорах, заседаниях, дискуссиях «в верхах» правительства или российского МИД чередуются с описаниями споров тогдашних политиков, высокопоставленных чиновников или «просто» интеллигентных людей о судьбах России.
И буквально не счесть красочных, чётких, остроумных зарисовок с натуры, умело, уверенной рукой набросанных портретов случайных попутчиков, сослуживцев, литераторов, чиновников, политиков — хорошо известных и позабытых уже современников автора.
Однако же такое смешение жанров, тем, стилей отнюдь не приводит к хаосу. Всё единят, сопрягают, стягивают в цельную картину российской жизни тех лет трезвый и неравнодушный взгляд автора, его размышления и оценки, само его постоянное «присутствие» в «Записках». История предстаёт в них в живых лицах и характерах, в радостях и огорчениях повседневности наших не таких уж и далёких предшественников, в волновавших и забавлявших их фактах, анекдотах и слухах, в их надеждах, заблуждениях, иллюзиях.
В «Записках» Г.Н. Михайловского живые люди, живая жизнь, ещё живое, кажется, едва только успевшее остановиться время. Быть может, именно поэтому они чем-то напоминают ещё один возвращённый из небытия роман «из русской жизни», герой которого — российский интеллигент в предреволюцинные и революционные годы.
Странностей, когда они входят в привычку, а тем паче становятся вровень с национальной традицией, не замечаешь. Мы, например, давно сжились с тем, что собственное наше прошлое (Отечества — почти всегда, семейное — отнюдь не редко) открывается нам, а говоря прямее, всего лишь приоткрывается, мало того что по прошествии нескольких десятилетий, но и непременно после крутых перемен в судьбе страны.
Вступление на престол каждого Романова не только порождало надежды и иллюзии, но и позволяло критически подступиться к делам, мыслям, характеру его усопшего или убитого предшественника. Это, как правило, очень и очень устраивало нового самодержца, создавая своего рода контрастный фон для неизменно обещавшихся реформ, послаблений, переустройств. Однако и общество, по крайней мере образованная его часть, в накладе не оставалось. Ибо тотчас же появлялась возможность хоть краешком глаза заглянуть в архивы, опубликовать что-нибудь из запрещавшихся прежними властями сочинений — политических, философских, художественных. О советском периоде нашей истории и упоминать нечего. Так что борьба с «белыми пятнами» у нас, кажется, в крови.