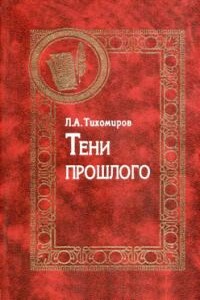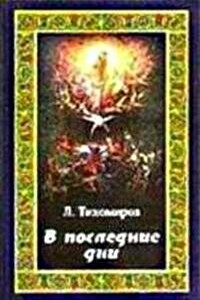Религиозно-философские основы истории | страница 16
Михаил СМОЛИН
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ
Духовная борьба в истории
Глава I
Философия истории и религия
В философском познании мы стремимся уяснить себе внутренний смысл процесса нашего изучения, и эта задача в отношении истории человечества приводит нас к привнесению религиозной точки зрения в область наблюдения исторических событий. Историческая наука даст нам сведения о том, каким путем и под влиянием каких внешних условий развивалось человечество. Но одно внешнее познание внешнего хода явлений не способно удовлетворить наших запросов в отношении такой эволюции, в которой проявляется человеческий дух, сознание, личность. К вопросу о смысле такого процесса неизбежно [приводят] те же запросы, которые являются перед нами в отношении нашей личной жизни. Человек спрашивает себя: зачем он явился на свет, с чем уйдет из него, что связывает начало жизни, ее течение и ее конец? Эти вопросы становятся пред нами и при размышлении о коллективной жизни людей. Жизнь личная и жизнь коллективная так тесно между собою связаны, что мы не можем их понимать без освещения жизни личной общественными условиями и общественных условий — свойствами личности.
Отказываясь от этого, мы должны были бы прийти к заключению, что история совершенно не имеет разумного смысла, то есть целей своего начала, средины и конца. Она превращается в бездушный процесс природы, в котором мы кое-как можем прослеживать лишь последовательность причин и следствий, неизвестно зачем начавшихся и неизвестно к чему приводящих, и, во всяком случае, чуждых сознательной преднамеренности. Но с таким воззрением сознательно живущая личность не может примириться. Даже опуская обессилевшие руки при неудачах схватить смысл событий, мы не успокаиваемся надолго на этом познавательном отчаянии, и при малейшей возможности найти какие-нибудь данные для суждения человечество снова устремляется к вечному вопросу о целях жизни, целях истории.
Это упорство нашего сознания вполне законно, ибо, примиряясь с невозможностью понять цели жизни, мы осудили бы себя на бессознательность существования, а потому должны были бы отказаться от всего высокого в своей личности и признать, что нет различия между высоким и низким. Вопрос о том, что высоко и благородно, а что низко и гнусно, всецело зависит от целей жизни. То, что для одних целей было бы высоко, — для других целей придется признать нелепым. Оценку своей личности и свою выработку мы можем производить только применительно к тем или иным целям мировой жизни, и если их нет или если мы их не знаем, то нет и личной осмысленной жизни, нет, стало быть, именно того, из-за чего стоит жить.