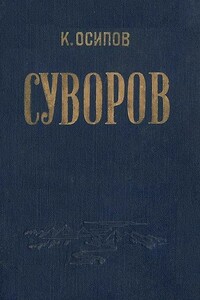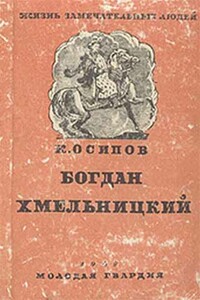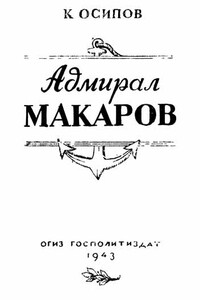Суворов | страница 46
Узнав об отмене поиска, Суворов пришел одновременно в ярость и отчаяние. «Благоволите, ваше сиятельство, рассудить, — написал он Салтыкову, — могу ли я уже снова над такою подлою трусливостью команду принимать… Какой позор! Все оробели, лица не те. Боже мой! Когда подумаю — жилы рвутся».
На этот раз он не фиглярничал. Все в нем возмущалось и кипело. Потрясенный малодушием своих подчиненных и чувствуя себя совсем больным, он сдал командование Мещерскому и уехал в Бухарест.
Между тем Румянцев очень хладнокровно отнесся к отмене демонстративной операции: 7 июня состоялась переправа главных русских сил, и цель повторного поиска на Туртукай отпала. Он возложил на левый фланг салтыковской дивизии новую задачу — спуститься по Дунаю и отвлечь внимание гарнизона Силистрии от потемкинского корпуса.
Если Суворов имел хотя бы скудные сведения об общей стратегической обстановке, он, конечно, ясно понимал бесцельность нового Туртукайского поиска теперь, когда армия уже переправилась. Но он не мог совладать с собою. Последствия неповиновения главнокомандующему, неизбежные жертвы — все отступило на задний план: он решился по собственной инициативе предпринять отмененную его помощниками операцию.
Суворов не думал в это время о том, что по отношению к Румянцеву он ставит себя в такое же положение ослушника, в каком находился по отношению к нему Мещерский. Суворов всегда имел для себя в таких случаях другую мерку, чем для остальных — мерку гения, требующего иных прав и иных критериев. В данном же случае он руководствовался двумя мотивами: во-первых, и самое главное, военно-воспитательным; во-вторых, страстным желанием «смыть позор» с себя, ибо ему, по его выражению, лучше было «где на крыле примаючить, нежели подвергнуть себя фельдфебельством своим до стыда видеть под собою нарушающих присягу и опровергающих весь долг службы».
После недельного отсутствия он вернулся в Негоешти и тотчас начал приготовления к атаке. Для большего морального впечатления он об’явил, что остается в силе ранее выработанная им диспозиция. В действительности он внес в нее много коррективов, учтя изменившуюся обстановку. Основные положения этой диспозиции вполне выдержаны в духе его военных правил: «итти на прорыв, не останавливаясь; голова хвоста не ждет[15]; командиры частей колонны ни о чем не докладывают, а действуют сами собой с поспешностью и благоразумием; ежели турки будут просить аман, то давать» и т. д. Разработанный порядок наступления предусматривал сочетание развернутых линий с колоннами.