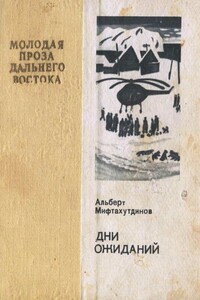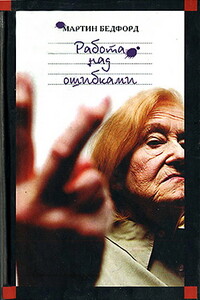Когда улетают журавли | страница 3
Я потоптался на месте, унимая в себе обиду, и направился в Сенькину рощу, что некрутой подковкой вплотную охватила Доволенку с запада.
Как коротки детские обиды! Едва я вошел в тень, а уже легкий шум листвы, близкое и далекое пение птиц глушило и заливало во мне горечь, как скорый дождь заливает костер. Мне делалось легко и бездумно, и какой-то восторг и тихая нежность заполняли меня.
На маленькой поляне я лег в высокое разнотравье, где было прохладно и душисто, и стал вплотную глядеть в дремучие заросли травы. У корней было сумрачно и жутко, и я в воображении уменьшал себя до крошечной козявки, которая бесконечно долго ползла куда-то по земле, с трудом преодолевала гигантские валежины, приостанавливалась в раздумье, а потом долго махала передними лапками-волосинками, может быть, кричала по-своему, звала на помощь. Откуда-то из далекой мглы выбежал огромный коричневый муравей. Он бежал мощно и уверенно, как доволенский жеребец Буланка, и мне казалось, что я слышу дыхание муравья и как содрогается под его ногами земля. Козявка сжалась и закрыла лапками голову, но муравей презрительно пробежал мимо нее. У мощного ствола болиголова потоптался, принимая какое-то решение, и стремительно полез вверх, наверное, затем, чтоб поглядеть на солнце, узнать время. Навстречу ему шагала, складываясь вдвое и вытягиваясь, зеленая гусеница-землемер чуть толще иголки. Она, должно быть, испугалась муравья, скрутилась калачиком и ухнула вниз. Ушиблась, да болеть некогда: попробуй все перемеряй. Слава богу, что жива. Распрямилась и пошла работать: раз-два, раз-два — и скрылась в буреломе.
Я перевернулся на спину. Прямо от моих глаз бесконечно высоко уходил в небо ствол саранки. Ее завитые цветы, кажется, доставали до неба. Да нет: вон, немного выше цветов черным крестиком кружится птица. Она, наверное, скользит спиной по твердому синему дну. Я мысленно дотрагивался рукой до этого дна, воображая, какое оно скользкое и прохладное, как тарелка, пытался взглядом отыскать твердь, но взгляд проникал все дальше и дальше и ни во что не упирался. Потом там закружились белые кружки и мухи, и я закрыл глаза, но они все кружились так же высоко, только небо было уже черным.
А птицы все названивали, а в траве что-то свиристело и потрескивало, будто сало на горячей сковородке. Но все глуше и мягче делались звуки, а потом и вовсе исчезли.
Я проснулся от неестественного хохота. Сорока, свесившись в мою сторону с вершины березы, заходилась в истерике, как Варька Кроликова: «Ках-ках-ках, вы посмотрите, люди добрые, целый час трещу, а он хоть бы ухом повел. Как-ках-ках».