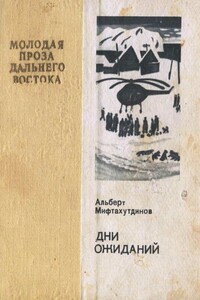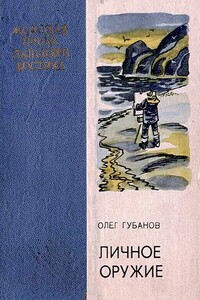Когда улетают журавли | страница 18
— Ничо, складно…
— Складно?! Эх вы! Я вот плачу и не стыжусь, потому что осознаю… Кто породил? А? Вот она, — Николай Иваныч обводил рукой, — земля наша, народ, который ушел, покоится, и который есть.
Он говорил отрывисто, торопясь, а я многое не понимал (при чем народ, да еще мертвый? Как может он родить человека, а тем более — земля?), но знал одно: произошло что-то неслыханное. Я Пушкина читал и портрет его видел в книжке, а теперь прочитал в газете:
И для меня разницы не было: как в книжке, так и в газете. Как говорил Николай Иваныч: «Все тут наше — и земля, и душа». Но ведь Пушкин — человек или бог? Где он жил-был, за какими лесами-морями? Разве мыслимо такое, если бы он ходил по Доволенке, а мы, ребятишки, звали бы его дядей? Или полол картошку? Разве бы я ему говорил: «Заступись за Кольку»? Я был ошеломлен и ничего не понимал. Разве, кроме Пушкина, кто-то еще может написать стихи?
Я было побежал домой, чтобы взять книжку и с ней пойти к Раздолинскому, посмотреть при нем на него и на портрет Пушкина, но вспомнил, что он уехал зачем-то в район.
А Николай Иваныч наседал на дядю Максима:
— Доволенка наша что, крошка?
— Ясно, баба сядет, прикроет, — соглашался тот.
— Вот! — подхватывал Николай Иваныч. — И угадал точно! Это все равно, что на триста шагов мухе в глаз попасть. Да какой! Такое семя может не одну сотню лет зреть для всхода! И вот взошло! При нас. А вы — складно. Эх, народ, такого счастья не понимаете! — обижался он.
— Как не понимаем? — успокаивали его. — Только зачем семю-то сто лет в земле лежать? Солнышко пригрело — и взошло.
— Пригрело? Вот именно… — И Николай Иваныч уходил размягченный, усталой походкой, как будто из далека-далека принес тяжкий груз и свалил с плеч.
В Доволенке наверняка многие бы этому событию не придали особого значения, а кое-кого и вовсе бы не задело. Но ведь Николай Иваныч — человек хоть и земной в доску, но книжный, всю жизнь детей грамоте учил, казенные бумаги всей деревне составлял. Он и корову, матушку-кормилицу, вылечит, и спор рассудит, что каждый доволен останется, и пьяницу на ум поставит, что тому после этого на вино и глядеть тошно. Уважаемый-разуважаемый — как же ему не поверишь? Да и Раздолинский… Крути не верти, а не от мира сего человек, тайну какую-то от людей для бога имел. И имя его над стишками — толстющими буквами. Вот сказали бы: «Составь такой же, а то голову отрубим». — «Руби, только скорей — не составлю».