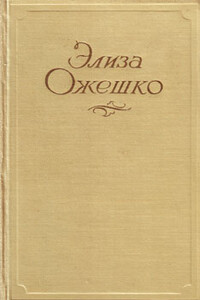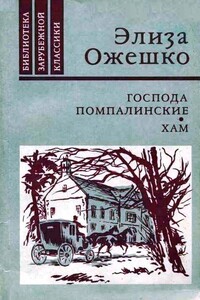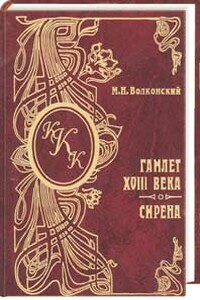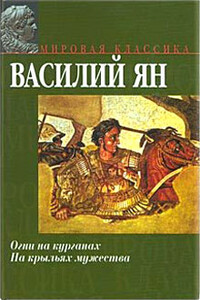Миртала | страница 28
— Могу попытаться угадать причину, по которой здоровье покинуло тело и горечь напоила душу этого иудея? Не после ли той страшной войны, в которой была разрушена ваша столица и храмы ваши, произошли в нем эти изменения?
— Да, господин! — тихо ответила Миртала и, закрыв лицо руками, разрыдалась. Плача, она несколько раз поднималась со своего места, будто хотела вскочить, уйти, убежать отсюда. Но не уходила, не бежала. В ее полудетской груди шла борьба. Рассказывая о Менахеме, она вспомнила все-все, в том числе и то, о чем не должна была вспоминать здесь. К этому месту ее приковывало жгучее любопытство пытливого ума, приковывал непреодолимыми чарами звонкий голос Артемидора, который, обратившись к Музонию, с более глубоким и более печальным, чем всегда, взглядом, спрашивал:
— Учитель! Как же так получается, что триумф и вечная радость одних всегда оборачивается болью и унижением других? Помню, я еще ребенком был, когда услышал слова Сенеки: «Человек должен быть для человека святыней». Иудеи, у которых вожди наши опустошили и отняли отчизну, разве они не люди? А Менахем, душа которого преисполняется горечью от нашей радости, разве он не человек?
— Ты хорошо сказал, Артемидор! — необычайно оживившись, подтвердила Фания. — Этот иудей — человек добродетельный.
Вдруг бледные и всегда молчаливые губы Арии зашевелились, и ее глубокий, выходящий из многострадальной груди приглушенный голос произнес:
— Давно, очень давно сердца наши переполнены тем же самым гневом и той же самой болью!..
Эти загадочные для любого непосвященного уха слова были здесь вполне понятны, а уже потухшие, казалось, глаза Музония полыхнули чуть ли не юношеским блеском.
— Да, достойнейшая, и той же самой борьбой, которую ведут благородные и гордые…
— …падая в ней на середине пути, словно срезанные колосья или срубленные дубы… — докончила Фания.
О ком они говорили, кого внезапно побледневшая жена претора сравнивала с преждевременно срезанными колосьями и срубленными дубами, Миртала не знала, но хорошо понимала, что тяжелой скорбью и кровавыми потерями отмечено не только прошлое, но — как знать, — может, и настоящее этого дома, в котором, несмотря на достаток, спокойствие и частое веселье, чувствовалась как бы висящая в воздухе слеза невыплаканной скорби или воздыхания о неосуществившихся высоких стремлениях.
Без всякого опасения переступала она теперь порог дома претора. Она уже знала этого римского сановника и хорошо представляла, как он выглядит. В ней еще свежи были воспоминания, как задрожала она и побледнела в первый раз, когда вбежавший в перистиль молодой слуга объявил о приближении хозяина дома. В перспективе открытой настежь колоннады, над которой, чтобы впустить летнее тепло и благоухание цветущих растений, подняли цветные покрывала, она увидела еще не старого человека, высокого, с черными, как смоль, волосами, крепкого телосложения, быстрым шагом преодолевшего два просторных зала. Уже издали она отметила его энергичные движения, прекрасные черты и черные брови, грозно сдвинутые над прищуренными в сосредоточенной задумчивости глазами. Переступив порог перистиля, он широко раскрыл глаза и взглянул на собравшихся там людей; дружеская улыбка смягчила жесткие черты его, мужественный голос, в котором чувствовалась привычка отдавать приказы и выносить приговоры среди широких пространств базилик и площадей, произнес теплое, сердечное приветствие, и, к ее несказанному удивлению, хозяин дома достал из-под складок плаща детскую игрушку. То был мяч изумительной работы, сделанный из гибких золотых обручей. Маленький Гельвидий подскочил к отцу, а тот на мгновенье поднял золотой мяч вверх на вытянутых руках, а потом, смеясь, с такой силой бросил его, что мяч, высоко подскакивая и звеня металлом, пролетел через весь перистиль и пропал в густой зелени лужайки, распростертой у подножия колонн.