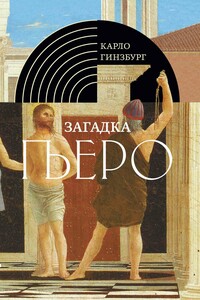Появление героя | страница 52
Перед свадьбой, как написано в мемуарах, Ржевский и Алымова вернулись ко двору, где, по ее словам, «все принимали живое участие» в ее замужестве, «восхваляли» жениха и невесту, порицали их «гонителя» и советовали «скорее окончить дело, чтобы избавиться новых преследований» (Там же, 29).
Нет сомнения, что восприятие двора полностью определялось реакцией главного зрителя. Государыня пересела в ближнюю ложу и задала эмоциональную матрицу, в рамках которой все придворные должны были воспринимать происходящие события. На сей раз этого жеста оказалось достаточно, чтобы обеспечить разыгрывавшемуся действу «желаемое» завершение и задуманный назидательный эффект. В другом, отчасти сходном случае императрице пришлось самой ставить спектакль.
Редкая вещь
По канонам комедии XVIII века, влюбленным полагалось преодолевать препятствия к своему соединению. Самым распространенным из них было сопротивление родителей и опекунов, принуждающих героиню к нежеланному браку. Так устроена и большая часть пьес, написанных самой Екатериной, начиная с ее первой комедии «О, время!», где молодому человеку и его покровителю удается вызволить возлюбленную из плена трех злобных теток.
В домашней тирании и принуждении чувств императрица видела эмблему старого мира, от которого она избавляла новую Европейскую Россию. Эти представления отразились в постановке, осуществленной ей в последние годы царствования. Именно здесь нашли наиболее полное воплощение символические модели чувств, призванные служить образцами для ближайшего окружения, двора и всей образованной публики (см.: Зорин 2006).
29 января 1790 года государыня смотрела в Эрмитажном театре комическую оперу «Дианино древо» композитора В. Мартина-и-Солера, которого она уже пригласила в Петербург в качестве придворного композитора (cм.: Link 2010). Либретто оперы написал прославленный либреттист Л. Да Понте, а перевел на русский язык старейший актер русского театра И. А. Дмитревский. Партию Амура исполняла юная воспитанница Императорского театрального училища Лиза Уранова. Екатерина сочла, что «La pièce n’a pas le sens commun» [«В этой вещи нет здравого смысла» (фр.)], но похвалила «Лизу и музыку» (Храповицкий 1901: 324). На следующий день эта тема была продолжена. «Разговор о Л<и>з<е>, Санд<унове>, pourquoi les empêcher de se marrier? [зачем мешать им пожениться? (фр.)] Пожалован ей перстень с 300 рублями, и при отдаче приказано сказать, что вчерась пела о муже, то бы никому, кроме жениха не отдавала» – это высочайшее повеление занес в свой дневник А. В. Храповицкий, секретарь императрицы и одновременно управляющий императорскими театрами (Там же, 324).