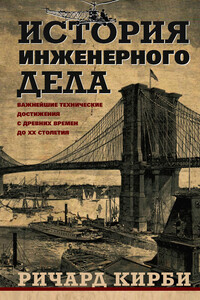Религия на Кубе. Философско-религиоведческий анализ | страница 48
Показательно, что и такое важное для верующих событие, как привоз в Россию пояса Пресвятой Богородицы по итогам 2011 года стало важным для того же процентного диапазона респондентов. К примеру, в Москве важным данное событие назвали 2 % опрошенных, а в Нижнем Новгороде – 4 % [180].
По мнению многих исследователей, религиозность российского крестьянства на рубеже XIX–XX веков также носила весьма относительный характер. Так, М.Д. Шевченко в своем исследовании пишет, что говоря о массовой религиозности населения, современники отмечали преобладание внешней стороны, исполнения обрядов и правил. Ф.М. Достоевский не раз обращал внимание на поверхностную религиозность населения, незнание им Евангелия и самой сути православного вероучения. М.Д. Шевченко продолжает: «У великоросов, сообщает издание начала XX века, слабо развито чувство всеприсутствия Божия, редко практикуется внутреннее обращение к Богу, тайное размышление о промысле над собою, сердечное влечение к духовному, неизвестному, таинственному и отрадному миру»[181]. Совершенно внешне и корыстно принимали христианство русские крестьяне[182].
В результате М.Д. Шевченко приходит к выводу, что русский народ вообще не усвоил суть христианского учения, так и оставшись язычником: «Христианство за 900 лет (X – нач. XX вв.) не стало всеохватывающей русские души религией. Религия святого духа не смогла создать христианской культуры на Руси»[183].
К.Д. Кавелин полагал, что для огромного большинства русского народа вся суть христианства представлялась в виде богослужения и обрядов, т. е. в виде культа. Аналогичного мнения придерживался и русский историк Н.И. Костомаров. А. И. Герцен и В. Г. Белинский считали, что русский крестьянин суеверен, но безразличен к религии[184]. Н. А. Бердяев писал: «То, что называли у нас двоеверием, т. е. соединение православной веры с языческой мифологией и народной поэзией, объясняет многие противоречия в русском народе. В русской стихии всегда сохранялся и сохраняется и доныне дионисический, экстатический элемент»[185].
Похожие мысли высказывает в своей работе «Религиозное сознание» А. И. Яковлев, отмечая, правда, что «слабая религиозная образованность значительной массы верующих – вовсе не свидетельство их слабой убежденности»[186].
Таким образом, догматическая сторона религиозного сознания крестьянства серьезно уступала эмоционально-чувственному компоненту. Языческие верования, укоренившиеся в православии с самого начала его проникновения на Русь, занимали значительное место в религиозных представлениях верующих, что губительно сказывалось на понимании ими социально-политической стороны религии. Несмотря на то что уваровская триада «Православие, Самодержавие, Народность» продолжала оставаться незыблемой в царствование Николая II в официальной идеологии государства, носители самого православия разительно отличались от того идеала, который представлял себе граф С. Уваров. Большая часть из них находилась в лоне так называемого народного православия, которое больше было ориентировано на практическое восприятие веры, применение ее в целях достижения своих повседневных задач. Цельного же образа православия в сознании русского крестьянства так и не сложилось. Уваров же полагал, что «Без любви к Вере предков, народ, как и частный человек, должны погибнуть; ослабить в них Веру, то же самое, что лишить их крови и вырвать сердце»